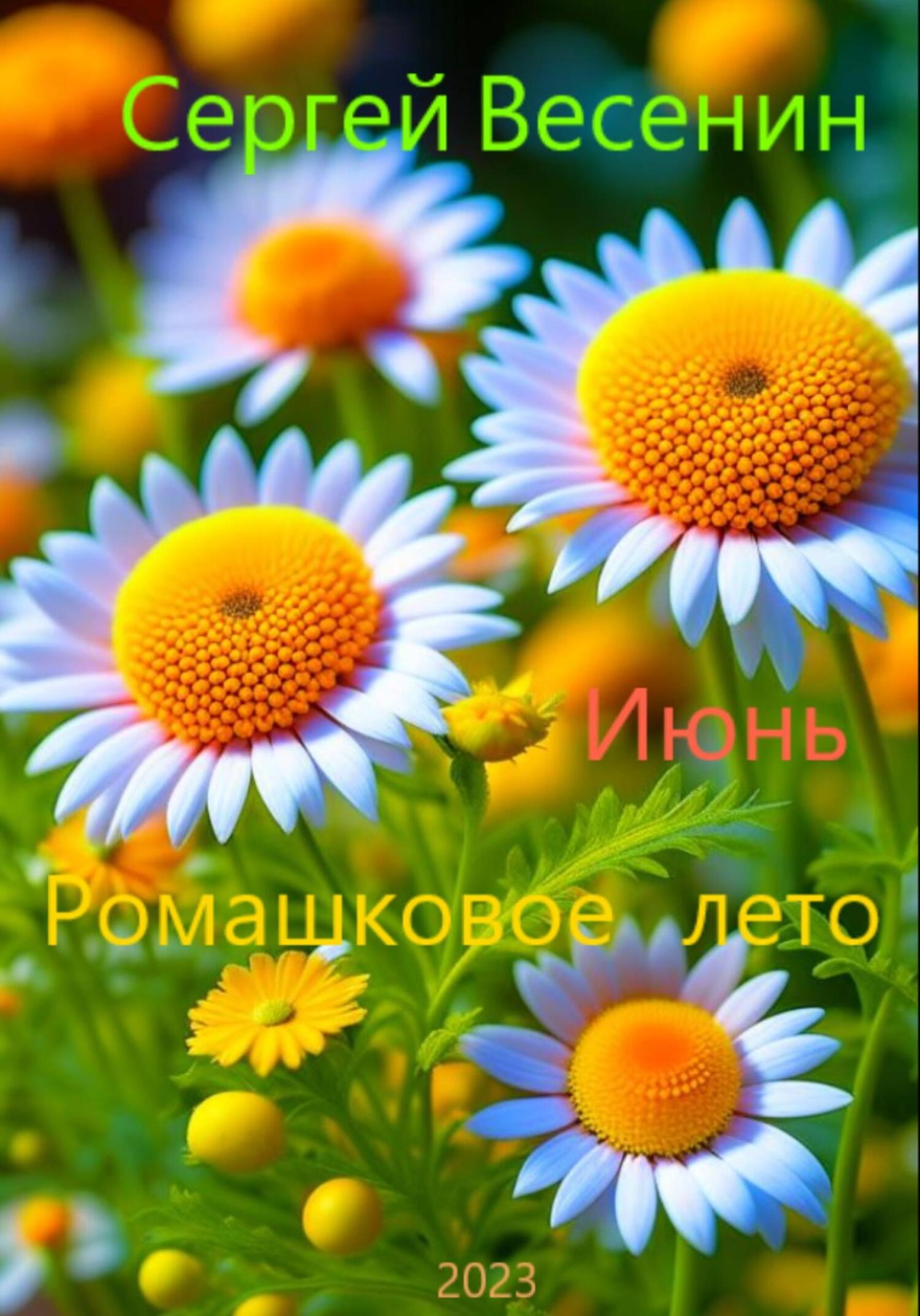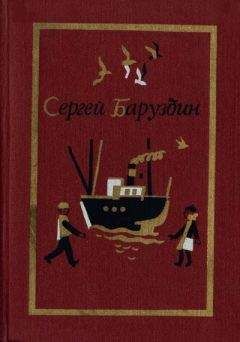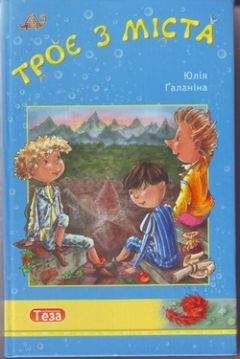угрюмы и темны;
Никто, о человек, твоей не мерил бездны,
О море, никому до дна ты не известно,
И не раскроете вы тайной глубины.
И всё же, вот уж ряд веков неисчислимый,
Как вы сражаетесь, раскаянье забыв
И жалость, вняв резни и гибели призыв,
О братья и враги в борьбе непримиримой! [19]
Человек и море оба равно загадочны, беспокойны и пребывают в вечной битве. Море дает человеку представление о Бесконечном, о сверхчувственном, об Идеале. Как Бодлер пишет в Моем обнаженном сердце:
Почему вид моря доставляет нам такое бесконечное и неизбывное удовольствие?
Потому что море наводит на мысли о необъятности и движении. Шесть-семь лье кажется человеку лучом бесконечности. Вот она, бесконечность, пусть и в миниатюре. Что за беда, коль скоро этого довольно, чтобы намекнуть на идею полной бесконечности. [20]
Но в своей неумолимой шири, переливающейся за горизонт, оно становится и синонимом угрозы; оно воплощает и доверие, и безысходность. Шум моря, его ропот – это смех ужасной бесчисленной толпы, как в Наваждении:
Будь проклят, океан! Твой гул, твои волненья
Я узнаю в себе… И смех, которым полн
Разбитый человек, боль, горечь, возмущенье
Я слышу в хохоте огромных этих волн. [21]
Или в концовке Семи стариков:
Словно буря, всё то, что дремало подспудно,
Осадило мой разум, и он отступил,
И носился мой дух, обветшалое судно,
Среди неба и волн, без руля, без ветрил. [22]
А что, как не море, послужит лучшим образом сладострастия или терзаний?
Бодлер не любил свою эпоху, которая в его глазах была ознаменована наивной верой в прогресс, доктриной прогресса во всех его ипостасях – технической, социальной, моральной, художественной – «единственной мыслью» XIX века:
Существует одно ходячее заблуждение, которого я боюсь как огня. Я имею в виду идею прогресса. Это изображение нынешней ложной философии запатентовано без гарантии со стороны Природы или Божества, этот новомодный фонарь – лишь тусклый светильник, изливающий мрак на все области познания. С его приближением никнет свобода, возмездие исчезает как дым. Тот, кто хочет осветить путь истории, должен прежде всего потушить этот коварный фонарь. Нелепая идея прогресса, расцветшая на гнилой почве нынешнего самодовольства, сняла с нас бремя нравственного долга, избавила души от груза ответственности, освободила волю от всех уз, которые накладывало на нее стремление к совершенству. И если этому удручающему безумию суждено продлиться еще долго, оскудевшие народы, убаюканные мягкой подушкой фатализма, бездумно погрузятся в дремоту одряхления. Такое самоуспокоение само по себе является симптомом уже вполне зримого упадка. [23]
Столь жесткую диатрибу против идеологии прогресса Бодлер сочиняет во время Всемирной выставки 1855 года; это гигантское празднество было организовано имперским режимом, чтобы заявить о приверженности к прогрессу, через несколько лет после Лондонской выставки 1851 года, открывшей моду на подобные промышленные торжества. Бодлер измышляет иронические оксюмороны, чтобы уловить всю противоречивость прогресса: это и «новомодный фонарь», и «тусклый светильник», то есть фонарь отнюдь не волшебный, а «изливающий мрак».
Друг Бодлера, поэт и фотограф Максим Дюкан (сопровождавший Флобера в путешествии на Восток), восторженный любитель технических новшеств, незадолго до того разозлил Бодлера своим поэтическим сборником Современные песни – это прогрессистский и позитивистский гимн, опубликованный по случаю открытия Выставки, наивное славословие пару, газу и электричеству. Бодлер насмешливо посвятит ему в 1861 году последнее стихотворение Цветов зла, Плаванье: он дает «Матери-Земли извечный бюллетень», а именно «всё ту ж комедию греха», описывающую мир как «оазис ужаса в песчаности тоски» [24]. Подаренное певцу прогресса Плаванье с наслаждением разрушает всякую веру в прогресс.
Подобный энтузиазм пробуждает в Бодлере гнев на материализм современников, которые полагают, что нравственность и искусство движутся тем же путем, что и наука и техника. Бодлер разоблачает философию эпохи Просвещения, идею о совершенствовании человека, о его врожденной доброте. В его глазах эта ересь пошла от Руссо, и она провоцирует упадок нравов, поскольку мы ожидаем, что в ходе истории природа человека улучшится. А потому можно и не напрягаться, ведь «мы прогрессируем независимо от нашей воли, неизбежно, – во время спячки» [25].
Для Бодлера человек по существу своему порочен, будучи поражен первородным грехом, и доктрина прогресса в приложении к нравственности скрывает Зло, неотъемлемо присущее человеческой природе. Поэт сердится на Виктора Гюго, одураченного «всеми этими глупостями, свойственными XIX веку» [26], и выдвигает в противовес собственную истину: «Увы! Сколько бы нам ни обещали с незапамятных времен улучшения нравов, мы всегда будем встречать довольно следов первородного греха, чтобы признать его неизбывную реальность».
Бодлер был пессимистом, хоть слово это вошло в обиход лишь в конце века, прежде всего благодаря именно его влиянию:
Спросите у любого благонамеренного француза, завсегдатая своего кафе, где он каждый день читает свою газету, как он представляет себе прогресс. Он ответит, что прогресс – это пар, электричество и газовое освещение – неведомые римлянам чудеса; что эти изобретения исчерпывающе доказывают наше превосходство над античным миром. Какой же мрак царит в его замороченном мозгу, как причудливо перемешались в нем понятия материального и духовного порядка! Бедняга настолько сбит с толку и американизирован зоократической и индустриальной философией, что начисто утратил представление о различии между миром физическим и миром нравственным, между естественным и сверхъестественным. [27]
Нельзя применять понятие прогресса к нравственной сфере, поскольку человек – человек естественный, то есть отвратительный – остается неизменным. Как пишет Бодлер в Моем обнаженном сердце:
Теория истинной цивилизации.
Цивилизация – это не газ, не пар, не вращающиеся столы [28], это сглаживание следов первородного греха. [29]
Несомненно, Бодлера больше всего возмущают догмы прогресса в приложении к искусству, будто современное искусство может отменить искусство прошлого, исключить всю его ценность, будто искусство прошлого перестает быть искусством. Когда кто-либо превозносил при Делакруа «великую химеру нашего века, раздутую, точно чудовищный воздушный шар, – идею неограниченного совершенствования и прогресса, он гневно спрашивал: „А где же ваши Фидии? Где ваши Рафаэли?“» [30] Делакруа не был одурачен прогрессом и потому был учителем Бодлера.
Бодлер вечно строил планы и подводил