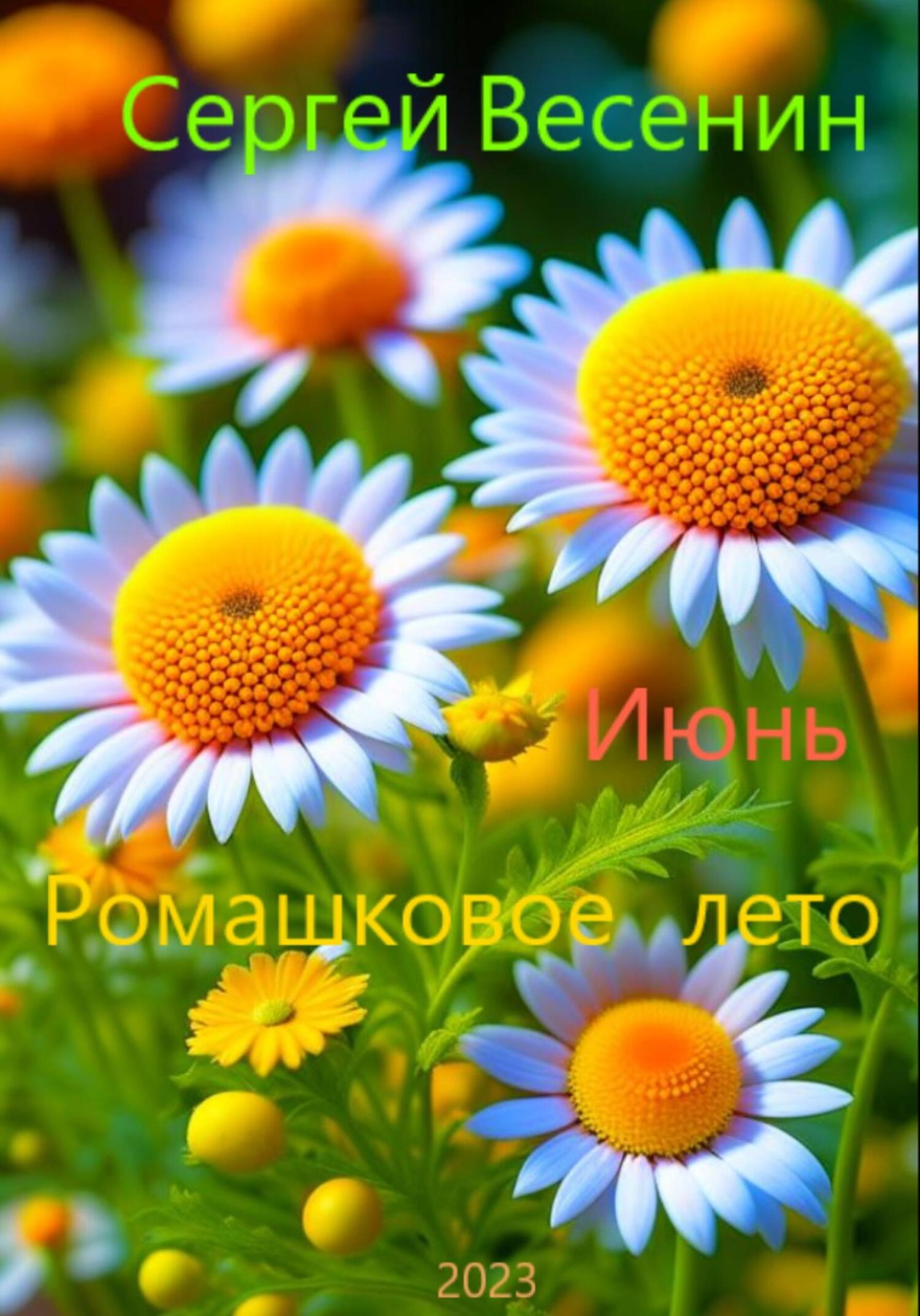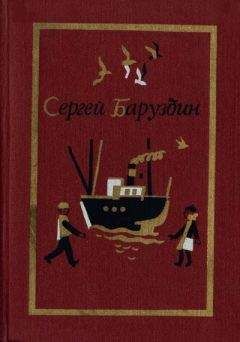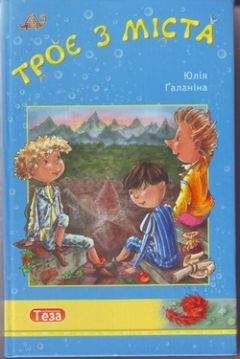сейчас помню свое потрясение, когда в одиннадцатом классе школы наш преподаватель предложил нам его разобрать. Что же меня тогда так поразило? Сегодня я сказал бы, что это вереница ошеломляющих сравнений, конкретных материальных сопоставлений: поэт называет свою память шкафом с выдвижными ящиками, пирамидой, склепом, кладбищем, будуаром. Эти хранилища воспоминаний объединяются жесткой рифмой, сближающей
мозг и
склеп (
cerveau /
caveau).
У Бодлера находим автобиографическую запись: «ДЕТСТВО: мебель эпохи Людовика XVI, старинные вещи, консульство [36], пастели, общество XVIII века». Чердак второго Сплина – это мир отца, человека старорежимного. У поэта нет будущего; прошлое осаждает настоящее, навалилось на него всем своим весом, сковывает его, парализует.
Затем меня, конечно, поразила тысячелетняя протяженность и незапамятная глубина, в которую ныряет память поэта, погружаясь не только в XVIII век с его отменно старомодным Буше, но и в Египет фараонов. Сплин и тоска становятся необъятны, как вечность. Как будто и сам поэт уже мертв, но это ничего не меняет, или он живет с мертвецами, а сам осужден на бессмертие, на эту вечную полумертвую жизнь, и его душе никогда не обрести мира.
Эта фантазия, «ужас невозможности умереть», сквозит во многих стихотворениях Цветов зла. Жизнь могла бы длиться бесконечно, как в Скелетах-земледельцах, где «даже там, в могильной яме / Не тверд обещанный покой» или «даже царство Смерти лжет» [37]. Это проклятие, невозможность смерти, напоминает легенду об Агасфере, приговоренном скитаться до конца времен. «Вероятно, смерть, – как писал Джон Э. Джексон, – не более чем иллюзия, а жизнь после смерти есть увековечение жизни, продолжение ожидания, на которое живые обречены». Именно это поэт и наблюдает во время «зари ужасной», которая следует за смертью в Мечте любопытного: «Был поднят занавес, а я чего-то ждал» [38], как будто театральный занавес открылся в пустоту. В 1860 году Бодлер признавался матери: «К несчастью, я уже долгие годы, показавшиеся мне веками, чувствую себя приговоренным к жизни».
…И вот в моей душе
Бредут хромые дни неверными шагами,
И, вся оснежена погибших лет клоками,
Тоска, унынья плод, тираня скорбный дух,
Размеры страшные бессмертья примет вдруг.
Кусок материи живой, ты будешь вечно
Гранитом меж валов пучины бесконечной,
Вкушающий в песках Сахары мертвый сон!
Ты, как забытый сфинкс, на карты не внесен, —
Чья грудь свирепая, страшась тепла и света,
Лишь меркнущим лучам возносит гимн привета! [39]
Жизнь стала тяжелой, давящей и чрезмерной, как камень пирамид. Тоска и сплин наводняют время и обращают его в вечность. А поэт, затерявшийся в глубине пустыни, похож на старого сфинкса, еще способного спеть последнюю песню, как статуя Мемнона [40], пока солнце исчезает в вечерних сумерках. Затерянный в одиночестве, поэт еще поет, оставляя нам это стихотворение, последний памятник. Вопреки безысходности вечного существования в его душе теплится надежда: выжить в творчестве, в стихах.
Бодлер был резким человеком (Сартр отмечал его «непомерное буйство», упрекая этого бунтаря в том, что он так и не стал революционером); поэт был гневным хулителем. Он понимал жизнь как непрестанную битву, а литературную или художественную жизнь – как войну. В 1846 году, в двадцать пять лет, он давал Советы молодым литераторам, будто убеленный сединами мудрец или старый вояка-ветеран. Среди его советов не последнее место отводилось «критическим разносам» (понятно, что просто «критика» звучало бы недостаточно жестко). Да, у него были и симпатии, но куда больше антипатий; он был сторонником прямой атаки, поскольку прямая «является кратчайшим путем»:
Состоит этот метод в том, чтобы заявить: «Г-н X. бесчестный человек и величайший болван, что я вам сейчас и докажу», – и доказать это: primo – secundo – tertio – etc. Рекомендую этот метод всем, кто верит в разум и крепкий кулак. [41]
Бодлер не упускал случая накинуться на своих современников с критикой, толкнуть их, оскорбить, и в особенности это касалось художественной критики (примеры тому мы увидим), но понимал, что такой метод небезопасен и хула может обернуться против хулителя, что и случилось, например, когда он ввязался в драку со сторонниками Гюго:
Неудавшийся разнос – самый прискорбный случай; это стрела, что возвращается к вам и в лучшем случае оцарапает на лету вам кожу на руке; это пуля, которая, срикошетив, может вас убить. [42]
Этот поэт много дрался, в том числе в 1848 году на улицах и баррикадах Парижа, но утверждал, что необходимо копить свою ненависть и не расточать ее понапрасну:
Однажды во время урока фехтования ко мне явился и стал докучать кредитор, ударами рапиры я гнал его до самой лестницы. Когда же я вернулся, учитель фехтования, добродушный гигант, которому достаточно было дунуть на меня, чтобы сбить с ног, заметил: «До чего же нерасчетливо вы транжирите свою неприязнь! Поэт! Философ! Стыдитесь!» Запыхавшийся, пристыженный, я дважды запоздал с выпадом и вдобавок приобрел еще одного, кто возненавидел меня – моего заимодавца, которому я, по сути дела, больших повреждений не причинил. [43]
Жизнь, в частности жизнь литературная, – это бой на шпагах, боксерский поединок, если верить карикатурам на эту тему, и надо иметь «крепкий кулак», напоминает нам Бодлер. В Салоне 1846 года он цитировал название главы из Истории живописи в Италии Стендаля: Как одолеть Рафаэля? и прилагал этот подход к современному художнику-ориенталисту: «вооружившись карандашом, господин Декан вздумал состязаться с Рафаэлем и Пуссеном» [44].
Бодлер очень быстро понял, что нельзя бескорыстно расточать свою горячность, нельзя транжирить ненависть, нужно тратить ее бережливо. Но и в 1864 году он писал из Брюсселя своему другу, фотографу Надару:
Можешь ли ты поверить, что я, именно я, мог избить бельгийца? Невероятно, не правда ли? Чтобы я мог побить кого-то?! Это абсурд. А самое чудовищное было в том, что я был кругом не прав. Посему, когда дух справедливости возобладал, я побежал за этим человеком, чтобы принести ему свои извинения. Но не смог отыскать его. [45]
Мы не знаем причины этой потасовки, но можем предположить, что она случилась у входа в кабачок, на улице, после выпивки или до нее, как в стихотворении в прозе Бейте бедняков! Поэт, начитавшись социалистической литературы, толкующей о равенстве и братстве, вышел из кабачка освежиться,