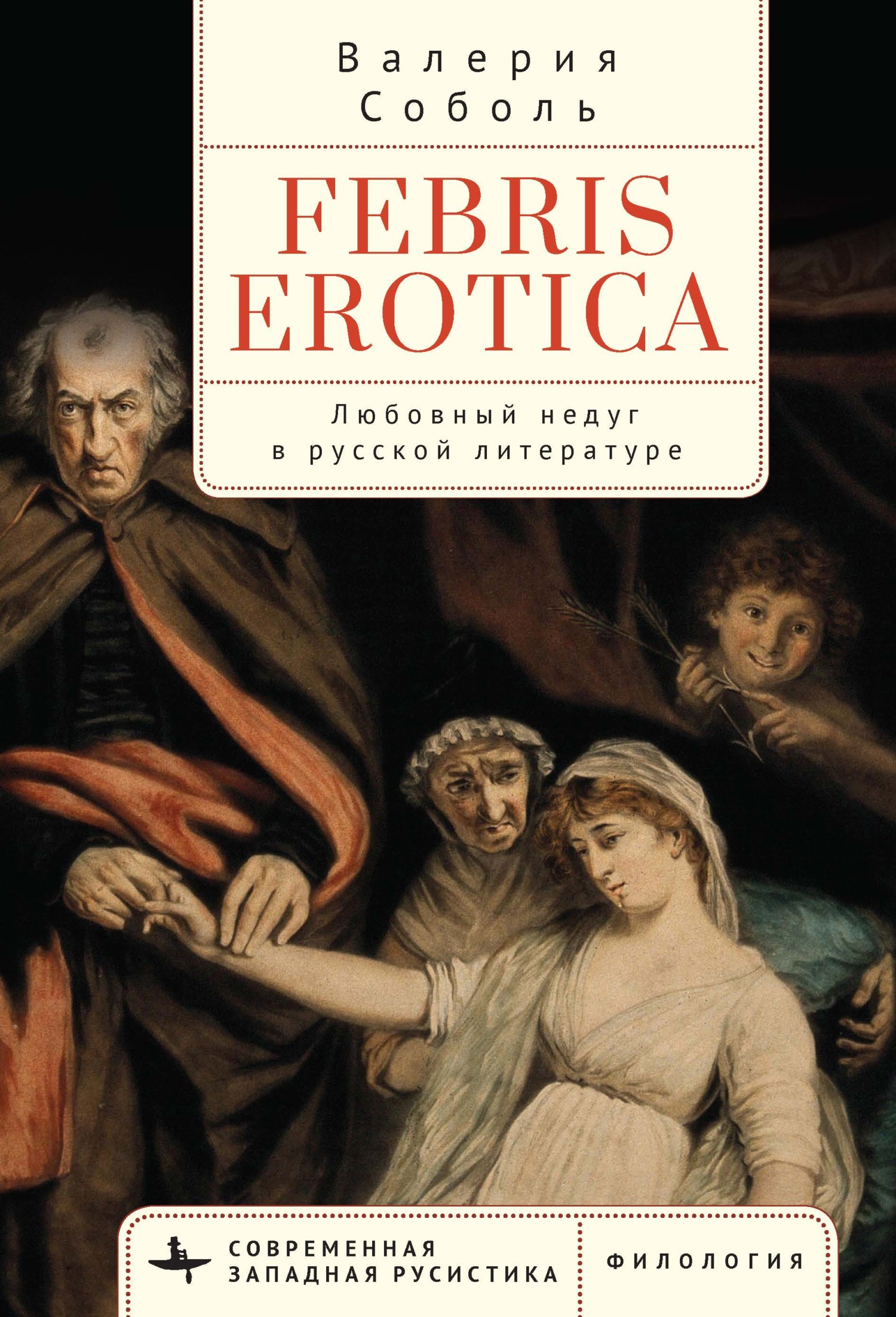атеистическую и монистическую позицию, которую часто принимают за домарксистский материализм [Малиа 2010].
Как неоднократно отмечала Л. Я. Гинзбург, молодой Герцен (как и Белинский) в 1830-е годы находился под сильным влиянием романтического идеализма и поэтому был лично заинтересован в борьбе с романтизмом [Гинзбург 1963; Гинзбург 1982]. Дуалистическая интерпретация любви («земная любовь» против «идеальной, платонической, небесной») была распространена в кругу Герцена в 1830-х годах и выражена в его частных письмах к своей невесте. См. [Гинзбург 1982: 240–242].
Другие ученые также отмечают редуктивный взгляд Герцена на романтизм и его едва ли не одержимость дуализмом как наиболее характерной чертой романтического мироощущения, несмотря на то что некоторые романтические философы (например, Шеллинг) и поэты (Кольридж) стремились преодолеть дуализм. Они также приходят к выводу, что причину следует искать в политических взглядах Герцена. Как предполагает Гинзбург, нападки на «запоздалый романтизм» в литературе и «шеллингианство» славянофилов в философии были в 1840-е годы необходимым полемическим ходом для утверждения новой идеологии (материализма, политического либерализма и «новой морали»). Показательно, что для своей характеристики романтизма Герцен выбирает наиболее спиритуалистические – и политически консервативные – его черты, включая увлечение Средневековьем и тесную связь с католицизмом [Гинзбург 1963]. Современный российский исследователь Руслан Хестанов показывает, что Герцен воспринимал дуализм на более универсальном уровне – как фундаментальную перцептивную и дискурсивную модель европейской цивилизации, секуляризованную форму христианского мифа, основу главных метафор, а также философских и социальных доктрин Запада. Он также отмечает политические последствия дуалистического мировоззрения для Герцена: «Дуализм стал, по мнению Герцена, универсальным и легитимирующим основанием всех современных форм насилия над человеческой личностью» [Хестанов 2001: 273].
Воспринимаемый как продукт литературной практики «натуральной школы», роман часто интерпретировался как иллюстрация принципа социального детерминизма в действии. Как писал в 1865 году критик А. К. Шеллер: «Читатель, вероятно, уже понял, кто виноват в несчастии всех этих лиц… Виноваты люди, виновата среда. Она плохо воспитала своих детей, она не давала им дела, она враждебно относилась к ним – везде и всюду отзывалось на их судьбе. С таким тысячеголовым чудовищем трудно или, лучше сказать, невозможно бороться отдельной личности…» (цит. по: [Путинцев 1953: 169]). Эта социологическая интерпретация романа стала особенно популярной в советской науке, которая, помимо среды, обвиняла в бедственном положении героев институт крепостного права и политический строй (монархию). См., например, [Эльсберг 1956: 155]. Более поздние критики, однако, отвергли такое редуктивное прочтение романа и настаивали на открытости поставленного в нем вопроса: «Отвечая на вопрос „кто виноват?“… Герцен говорит: никто. Каждый прав и каждый виноват, но не личной виной, а отложившими в нем прежде обстоятельствами и нормами поведения» [Манн 1969: 266]. В. М. Маркович также утверждал, что роман, благодаря своей диалогической структуре, предлагает альтернативу принципу детерминизма и объясняет затруднительное положение героев как результат врожденной сложности и противоречивости человеческих отношений [Маркович 1982]. Сабина Мертен также утверждает, что в романе «Кто виноват?» (особенно во второй части) Герцен преодолевает ограниченный детерминизм «натуральной школы», отказывается выносить моральный приговор своим героям и демонстрирует, что исследование общества в литературе возможно только через психологический анализ отдельных персонажей [Merten 2003: chap. 7]. Светлана Гренье, однако, убедительно доказывает, что это кажущееся отсутствие суждения со стороны автора – эффект повествования, созданный Герценом, который на самом деле использует ряд конкретных риторических стратегий, чтобы подавить идею морального выбора в этой ситуации и тем самым подорвать традиционную мораль (в данном случае – супружескую верность) [Grenier 1995: 14–28].
Манн отмечает склонность Герцена приписывать несчастья своих героев неким отсроченным последствиям причин, лежащих вне нравственной природы персонажей и часто удаленных во времени: «[Герцен] переносит центр тяжести с непосредственного, прямого влияния среды на влияние длительное, отложившееся в героях неким потенциальным зарядом и действующее теперь в основном через них» [Манн 1969: 263]. Манн не рассматривает физиологический аспект этого «влияния», поскольку его анализ в основном касается вопроса социального детерминизма, но в обоих случаях мы ясно видим один и тот же принцип в действии.
Библиотека для чтения. Т. 42. 1840. С. 41–42.
Радищев высказывает эту мысль в своем трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» [Радищев 1938–1952, 2: 59, 63; см. также комментарии к с. 373, 377–378]. Пушкин, среди прочих, упоминает о влиянии климата на национальный характер в своей статье «О народности в литературе» (около 1825 года); см. [Пушкин 1977–1979, 7: 28–29]. Доктор Крупов, однако, адаптирует и расширяет эту старую идею, чтобы усилить свою антиромантическую позицию.
Крупов использует этот термин, чтобы подчеркнуть женоподобность Круциферского, когда пытается оспорить решение молодого человека жениться на Любе – женщине слишком волевой и страстной, чтобы быть счастливой с кротким мечтателем Круциферским, согласно Крупову. О гендерной инверсии в романе см. в [Merten 2003: 120–121].
См. [Фуко 2010: 219]. В десятой главе Фуко также анализирует замену в медицине онтологического и классификационного подхода к болезням (и лихорадкам в том числе) изучением патологических реакций. Ключевую роль в этом переходе сыграл Франсуа Бруссе (1772–1838), который в начале XIX века объяснил феномен лихорадки не с точки зрения симптомов и органов, а как функциональное расстройство: воспаление ткани в ответ на раздражитель [Фуко 2010: 222–234]. В России, однако, нозологический подход к лихорадке был еще жив в 1840-х годах. В одной из библиографических заметок в «Отечественных записках» упоминается книга «Краткое сведение о водолечебном заведении в Лопухинке». Среди болезней, которые особенно успешно лечатся в этой лечебнице, перечислены различные виды лихорадок (Краткое сведение о водолечебном заведении в Лопухинке // Отечественные записки. 1846. Т. 46. С. 83).
Из виталистской концепции лихорадки XVIII века логичным образом следовало, что ее нужно лечить очистительными процедурами, помогающими душе «изгнать» вредные вещества из тела, такими как кровопускание, слабительные и рвотные препараты [Мирский 1995: 51]. «Глауберова соль», или Sal glauberi, была традиционным средством от лихорадки. Его лечебный эффект упоминается в «Санкт-Петербургских врачебных ведомостях» в 1794 году (О трясучках или перемежающихся лихорадках // СПВВ. 1794. Ч. 2. № 44–48. С. 141).
В русской литературе того времени взгляд на любовь как на патологию вновь встречается в «Обыкновенной истории» Гончарова (которая будет рассмотрена в следующей главе), а также в «Дневнике лишнего человека» Ивана Тургенева, написанном между 1848 и 1850 годами. Главный герой Тургенева записывает следующее наблюдение о любви: «…разве любовь – естественное чувство? Разве человеку свойственно любить? Любовь – болезнь; а для болезни закон не писан» [Тургенев 1978–2018, 4: 185].
Поэтому я не могу полностью согласиться с интерпретацией, которую Малиа дал фигуре доктора Крупова, назвав его «одним из любимых персонажей, выражавшим авторскую позицию: по существу, это и был сам Герцен в минуты своего вольтерианства» [Малиа 2010: 372]. Хотя рационализм и практичность доктора Крупова действительно предлагают отрезвляющий и освежающий взгляд на возвышенный идеализм или глубокий самоанализ других главных героев, грубый эмпиризм его мировоззрения (по крайней мере, в том виде, в каком он представлен в романе) был неприемлем для Герцена почти так же, как мечтательный идеализм людей, подобных Круциферскому. И в «Дилетантизме в науке», и в «Письмах об изучении природы» Герцен критикует односторонний