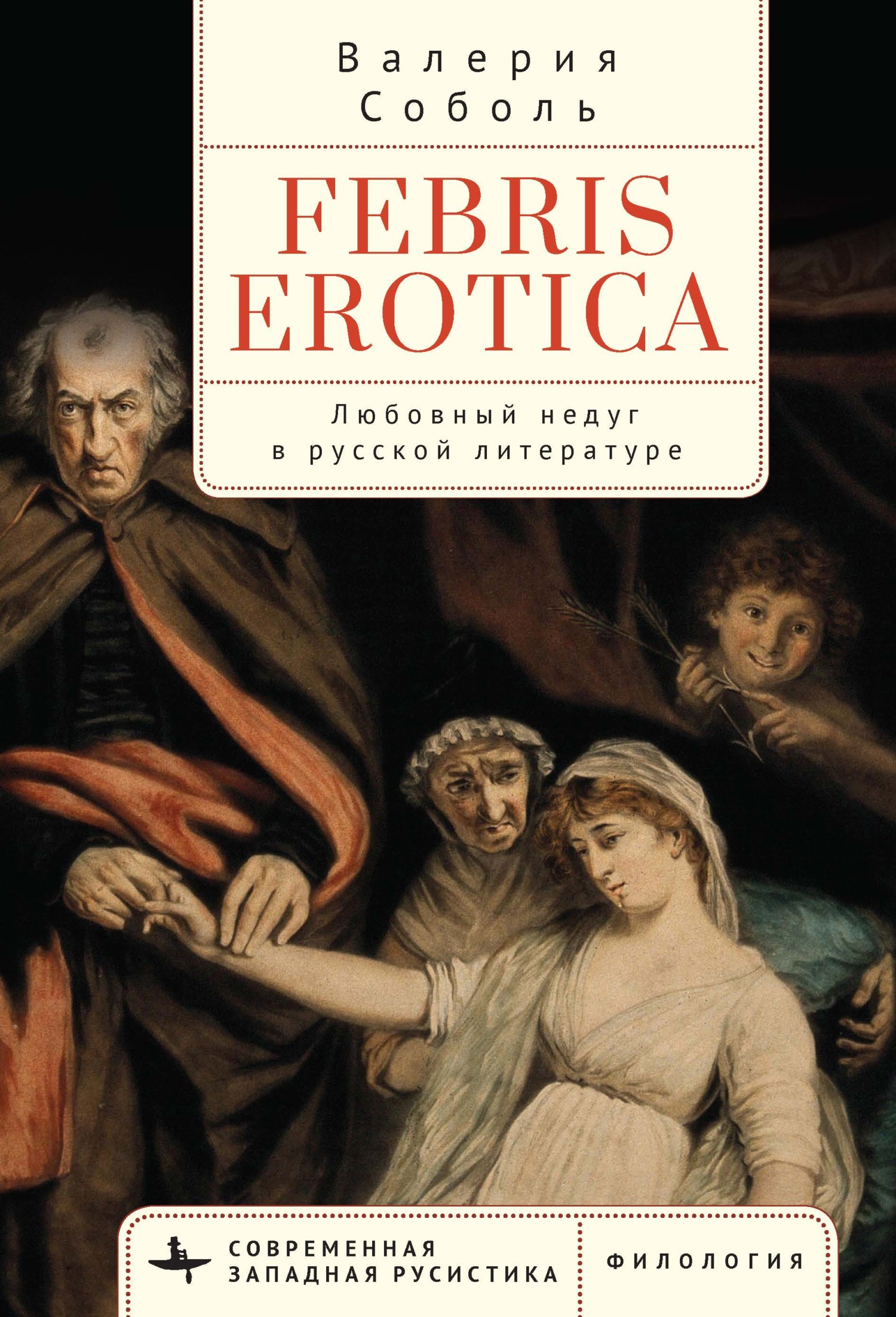Петра Иваныча был петербургский доктор. Он не знал, что значит ходить пешком…» [Гончаров 1997–, 1: 453]. Есть основания интерпретировать этот отрывок как ироническую отсылку к роману Герцена, поскольку его первые главы, в которых доктор Крупов появляется с «бамбуковой палкой», были опубликованы в «Отечественных записках» до того, как Гончаров закончил «Обыкновенную историю» в 1846 году. Однако доктор Крупов (что показательно, провинциальный врач) почти дословно соответствует описанию Гончарова, проводя часы в доме Круциферских во всех трех перечисленных ролях (медика, философа и друга семьи), скорее, во второй части книги. Эта часть романа была опубликована только в 1847 году. По-видимому, Гончаров уловил тенденцию, которая вскоре была подтверждена врачом из романа Герцена.
И. Клигер указывает на другие аспекты эпилога, которые подрывают идеалы рационализированного современного «века»: неуверенность дяди в будущем и возвращение «семейно-феодального дискурса», проявляющееся в признании дядей значимости семейных уз и, на экономическом уровне, в обретении Александром богатства через брак, а не через работу или карьеру [Kliger 2005: 7–9].
Огюст Конт, основатель позитивной философии, отказал психологии в статусе самостоятельной науки и низвел ее предмет до уровня физиологии [Уткина 1975: 169]. Более того, споры вокруг статуса психологии в России в 1860–1870-х годах были отголоском и продолжением дебатов, начавшихся в 1840-х между сторонниками двух различных подходов к психологии в европейской науке – физиологически обоснованного (Вильгельм Гризингер) и более идеалистического (Эрнст фон Фейхтерслебен). См. об этом в [Holquist 1984: 366]. О том, как психиатрические взгляды Гризингера были восприняты в России, см. в [Murav 1992: 34–35]. В последней работе также показано, как в 1860-х годах физиологический жаргон проникал в повседневную речь и литературный дискурс [там же: 39–40].
Как показывает Д. Джоравски, ситуация была сложнее, чем можно предположить по противостоянию двух радикальных лагерей. Многие фигуры нельзя однозначно отнести ни к одному из лагерей (например, либерала Ивана Сеченова – Джоравски вполне убедительно подрывает его образ убежденного материалиста); более того, некоторые споры о взаимодействии души и тела могли разворачиваться в рамках одного лагеря, как в дебатах Сеченова и Кавелина, о которых я кратко расскажу ниже. Однако замечание Юркевича служит доказательством того факта, что поляризация проблемы души и ее отношения к телу воспринималась современниками как историческая реальность и, следовательно, не была мифом, созданным историками-сталинистами, на чем настаивает исследователь [Joravsky 1989].
Чернышевский часто подчеркивает, что животные обладают не только сознанием и способностью мыслить, но и эмоциями и другими «нравственными» реакциями [Чернышевский 1939–1953, 7: 274–282].
Радикальный критик Дмитрий Писарев провозгласит тот же принцип на страницах «Русского слова» в 1864 году: «…одни и те же химические и физические законы управляют и развитием простой клеточки и развитием человеческого организма» [Писарев 1981, 1: 332].
Как мы помним, термин «нравственный» в русском языке XIX века охватывал не только этическую, но и, более широко, нефизическую область. Примером такого использования может служить статья Чернышевского «Антропологический принцип в философии»: «Но при единстве натуры мы замечаем в человеке два различные ряда явлений: явления так называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления так называемого нравственного порядка (человек думает, чувствует, желает)» [Чернышевский 1939–1953, 7: 241–242].
Эта идея станет основой теории «рационального эгоизма» Чернышевского в романе «Что делать?».
Нижеследующий анализ сосредоточен на отдельных аспектах работы Юркевича, имеющих отношение к моей теме. Я опускаю его пространный аргумент против идеи высокого развития сознания и нравственного чувства у животных, его критику утилитаризма Чернышевского, а также искусную деконструкцию логики и эпистемологии писателя.
Один из таких мифов, по мнению Юркевича, – это «закон превращения количественного различия в качественное». «Это превращение… так же непостижимо, как превращения, о которых говорит Овидий» [Юркевич 1990: 125].
Чернышевский дал довольно бессодержательный ответ на критику Юркевича в двух «коллекциях» «Полемических красот», опубликованных в «Современнике» в 1861 году (Т. 87. № 6. С. 447–478; Т. 88. № 7. С. 133–180; см. [Чернышевский 1939–1953, 7: 707–775]). Критика М. Антоновича в «Современной физиологии и философии» (Современник. 1862. Т. 91. № 2. С. 227–266) была более развернутой.
Как напоминает нам Г. Мурав, в «Преступлении и наказании» Достоевского даже необразованная Соня Мармеладова читала «Физиологию» Льюиса, что, безусловно, свидетельствует о популярности книги [Murav 1992: 39].
Обратите внимание на схожесть использования безличных конструкций в этих двух случаях.
Когда такая мышечная реакция, казалось бы, отсутствует, мы все равно имеем дело с рефлексом, конечная фаза которого подавлена. Теория центрального торможения Сеченова, которая постулировала существование специальных нервных центров в мозге, способных подавлять рефлексы спинного мозга, была его наиболее оригинальным вкладом в нейрофизиологию. Однако идеологически она вызвала много споров, поскольку объясняла способность человека подавлять определенные рефлексы (например, реакцию на болевые ощущения) не действием нематериальной «силы воли», а физиологическим механизмом.
Публичные лекции Сеченова, которые он читал в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии весной 1860 года, также пользовались огромной популярностью у слушателей и оказали большое влияние на культуру того времени. Как утверждает М. Холквист, фактологический стиль изложения Сеченова повлиял и на литературную практику того времени, представив сциентизм не только как мировоззрение, но и как дискурсивную практику [Holquist 1984]. По словам Холквиста, Тургенев в романе «Отцы и дети» испытывает именно этот новый «язык».
Сеченов, сам умеренный либерал, позже в своих мемуарах сетовал на незапланированный взрывной эффект своего трактата: «Из-за этой книги меня произвели в ненамеренного проповедника распущенных нравов и в философа нигилизма» [Сеченов 1945: 115].
Этот том серии «Научное наследие» (Т. 3, с. 56–77) содержит оригинальные материалы, документирующие позицию российской цензуры относительно работы Сеченова. Стереотип «материалист Сеченов» прочно утвердился в советской истории науки. Д. Джоравски возражает против этого ярлыка, поскольку Сеченов не отождествлял нейронные и психические процессы, хотя и стремился обусловить научную психологию физиологией мозга [Joravsky 1989: 131]. О роли Сеченова в истории русской психологии и культуры в целом см. в [Joravsky 1989: 53–63, 96–104, 125–134].
В этой работе Кавелин не называет Сеченова напрямую, но явно реагирует на его научные взгляды.
Консервативные идеалисты Николай Страхов и Юрий Самарин, например, критиковали Кавелина за его позитивистскую ориентацию. Матвей Троицкий, философ из лагеря эмпириков, обвинял его работы в чрезмерной метафизической составляющей, несовместимой с позитивизмом. Подробности полемики см. в [Уткина 1975: 177–180]. Ответы Кавелина Самарину и Сеченову, первоначально напечатанные в «Вестнике Европы», переизданы в его «Собрании сочинений» [Кавелин 1897–1900, 3: 650–874].
Характерно, что в своей работе «Кому и как разрабатывать психологию» Сеченов отвергает само понятие самости на том основании, что оно маскирует тот факт, что истинные стимулы наших действий и побудители наших ощущений лежат вне нас. Сеченов объясняет: когда ребенок говорит: «мама зовет