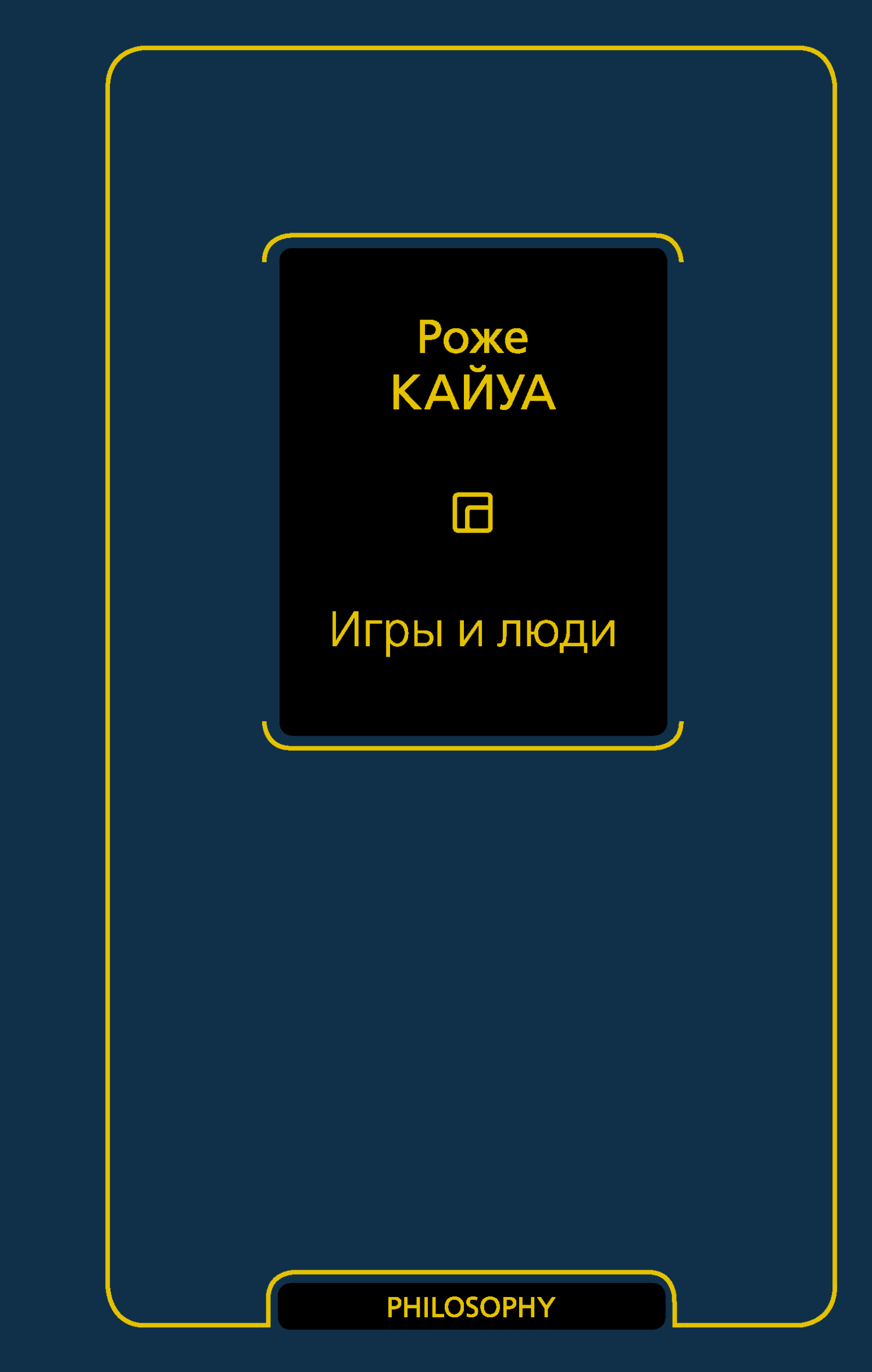образует одну из главных причин характерной для нее смеси страха и очарования.
Сила такого волшебства представляется непобедимой, и ничего удивительного, что на избавление от ее миража человеку потребовались тысячелетия. При этом он достиг того, что обычно называют цивилизацией. Я считаю приход цивилизации следствием примерно одного и того же пари, но заключалось оно всюду на разных условиях. Во второй части своей работы я постараюсь наметить основные черты этого решающего переворота. А в конце, сделав несколько неожиданный шаг в сторону, я попытаюсь установить, каким образом произошло разделение, разрыв, незаметно подорвавшие тайный союз головокружения и симуляции, при том что почти все говорило о его непоколебимом постоянстве.
* * *
Однако прежде чем приступать к рассмотрению капитальной перемены, заменившей мир маски и экстаза миром заслуг и удачи, мне еще остается в этих предварительных замечаниях кратко указать на другую симметрию. Как мы только что видели, alea прекрасно сочетается с agôn'oм, a mimicry с іlinх'ом. Но в то же время характерно, что внутри этого союза и в том и в другом случае один элемент выступает как активно-продуктивный фактор, а другой – как пассивно-разрушительный.
Состязание и симуляция могут создавать и действительно создают формы культуры, за которыми обычно признается либо воспитательная, либо эстетическая ценность. Из них возникают устойчивые, влиятельные, часто встречающиеся, почти неизбежные институты. Действительно, состязание по правилам – это не что иное, как спорт; а симуляция, понимаемая как игра, – не что иное, как театр. Напротив того, поиски удачи, погоня за головокружением за редкими исключениями ни к чему не приводят, не создают ничего способного к развитию и прочному установлению. Чаще бывает, что порождаемые ими страсти оказывают парализующее, прерывающее и разрушительное действие.
Корень такого неравенства, как кажется, нетрудно обнаружить. В первом объединении, где главенствует мир правил, alea и agôn выражают собой диаметрально противоположные волевые установки. Аgôn, стремление к победе и усилия для ее достижения, предполагает, что состязающийся рассчитывает на свои собственные ресурсы. Он хочет восторжествовать, доказать свое превосходство. Нет ничего плодотворнее такого стремления. Напротив, alea представляет собой изначальное, безусловное приятие приговора судьбы. Такой отказ от борьбы означает, что игрок всецело полагается на то, как выпадут кости, что он будет только бросать их и смотреть на результат. Его правило в том, чтобы воздерживаться от действий, не искажая решение судьбы и не вырывая его силой.
Конечно, и то и другое суть два симметричных способа обеспечить точное равновесие, абсолютное равенство шансов между конкурентами. Но первое представляет собой волевую борьбу с внешними препятствиями, а второе – отказ от волеизъявления перед лицом предполагаемых знамений свыше. Поэтому соревнование служит постоянным и эффективным упражнением, тренировкой человеческих способностей, тогда как фатализм в основе своей ленив. Одно настроение требует развивать любые свои личные преимущества, другое – неподвижно и немо дожидаться торжества или осуждения, приходящих извне. В такой ситуации неудивительно, что подспорьем и вознаграждением agôn'a являются знание и техника, тогда как нерешительность alea непременно сопровождается магией и суевериями, изучением чудес и совпадений [29].
Такую же двуполярность можно констатировать и в хаотическом мире симуляции и головокружения. Mimicry заключается в намеренном представлении какого-то персонажа, что легко становится художественным творчеством, делом расчета и умелости. Актер должен выстраивать свою роль и создавать драматическую иллюзию. Ему приходится быть внимательным и постоянно сохранять присутствие духа – точно так же, как участнику состязания. И наоборот, в іlinх'е, который в этом отношении сходен с alea, происходит отречение – причем не только от воли, но и от сознания. Предающийся такой игре устремляется куда кривая вывезет, и его пьянит от чувства, что эта кривая направляется чуждыми ему силами. Чтобы достичь такого состояния, нужно лишь отдаться на их волю, для чего не требуется никакого особенного умения.
В азартных играх опасность заключается в том, что игрок не может остановиться, здесь же она в том, что он не может положить конец добровольному расстройству. Из таких негативных игр, казалось бы, все же может вырасти более сильная способность противиться тем или иным чарам. Но на деле все наоборот. Ведь эта способность проявляется лишь при навязчивой обсессии, а значит, она все время вновь испытывается и как бы по природе своей обречена на поражение. Ее не воспитывают – ею рискуют до тех пор, пока она не падет. Игры симуляции приводят к театральным искусствам, выражающим и прославляющим культуру. А стремление к трансу и глубинной панике подавляет в человеке способность желать и различать. Оно делает его пленником двусмысленно-восторженных экстазов, в которых он чувствует себя богом и которые ведут к его уничтожению.
Итак, внутри каждого из двух основных объединений лишь одна категория игр является подлинно творческой: mimicry – в сочетании маски с головокружением и agôn – в сочетании регулярного соперничества с испытанием удачи. Две другие быстро оказываются разрушительными. В них выражается некое непомерное, нечеловеческое, неисцелимое искушение, какая-то ужасная и пагубная тяга, чью завлекательную силу важно нейтрализовать. В тех обществах, где царят симуляция и гипноз, выход иногда оказывается найден в тот момент, когда спектакль берет верх над трансом, то есть когда маска колдуна становится театральной маской. В обществах, основанных на сочетании заслуги и удачи, также существует непрестанное, не всегда равно успешное стремление увеличивать долю справедливости за счет случайности. Это стремление называют прогрессом.
Теперь пора рассмотреть действие этого двойного соотношения (с одной стороны, симуляции и головокружения, с другой – удачи и заслуги) в ходе перипетий развития человечества, как они предполагаются нами и рисуются современной этнографией и историей.
VII. Симуляция и головокружение
Игры обладают исключительной стабильностью. Рушатся империи, исчезают социальные институты, а игры остаются – с теми же правилами, порой с теми же принадлежностями. Причина этого прежде всего в том, что они являются чем-то незначительным и именно поэтому постоянным. Здесь – первая загадка. Ведь, обладая такой непрерывностью, одновременно текучей и упрямой, они все же не похожи на древесные листья, которые из года в год умирают и из года в год остаются такими же, как прежде; при всем своем постоянстве, они не уподобляются окраске животных, рисунку на крыльях бабочек, спиральному изгибу раковин, которые невозмутимо передаются из поколения в поколение. У игр нет такой наследственной идентичности. Они бесчисленно множественны и переменчивы. Они принимают тысячи форм, неодинаково распространенных, словно виды растений; но они бесконечно успешнее их акклиматизируются, перемещаются и приживаются на новом месте с ошеломительной быстротой и легкостью. Немного найдется таких игр, которые бы долгое время оставались исключительным