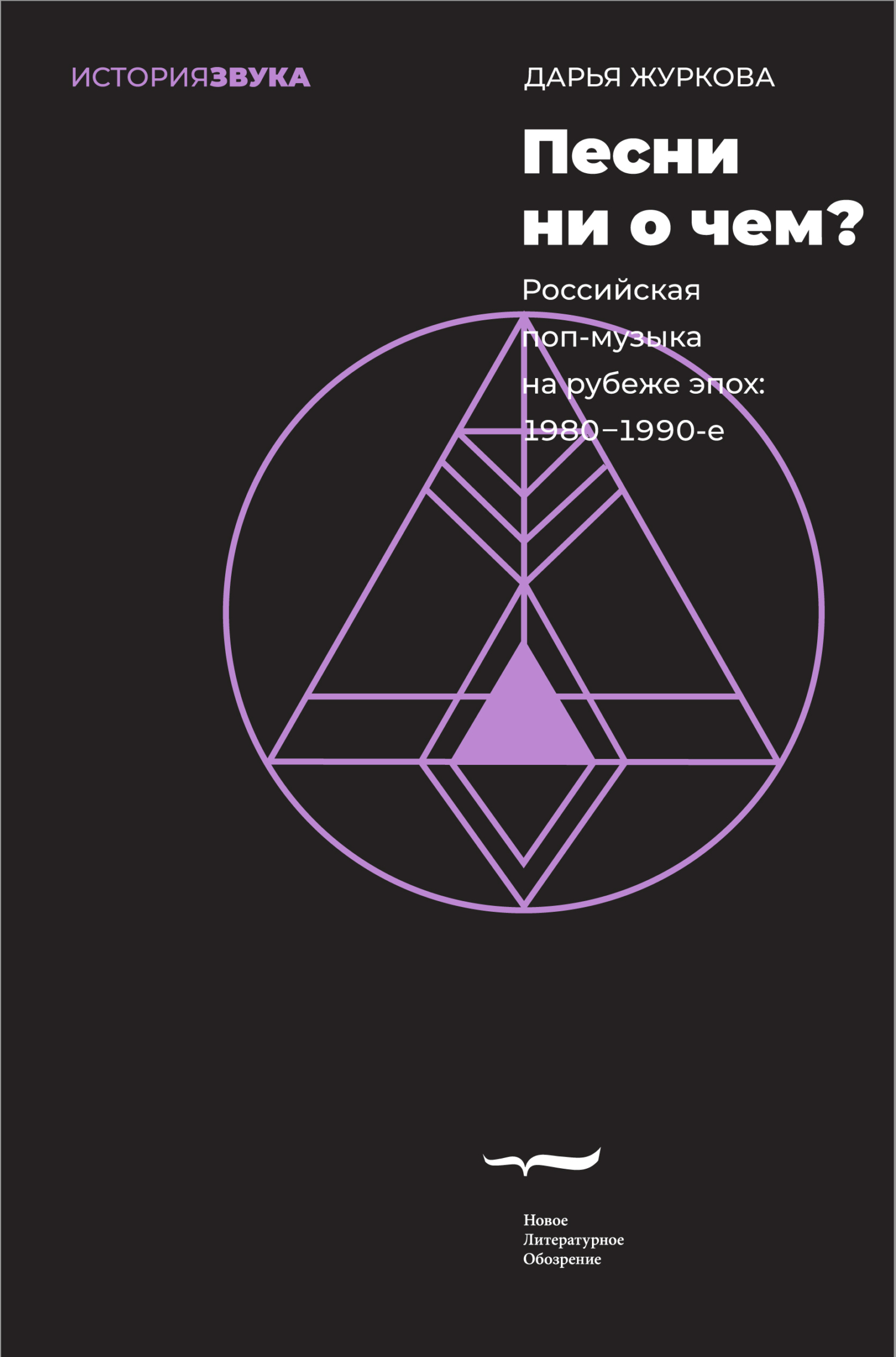мегаполиса перемежаются с историей сумасшествия героя. Он находится в абстрактной комнате, обитой противоударными матами и заполненной атрибутами больницы (капельница, столик с лекарствами). Мужчина периодически то лежит на каталке в позе ребенка, то ударяет молотом по стенам, то разбивает о стол бутылки, явно находясь в измененном состоянии сознания. Городская суета оказывается созвучной рою мыслей в голове героя, а теснота окружающего пространства – ощущению безысходности. Схожее противопоставление «бегущего» города и запертого в четырех стенах героя встречается в клипе Земфиры на песню «Ариведерчи» (реж. А. Солоха). В обоих примерах совмещение этих двух локаций создает эффект дискомфорта, который работает не столько на визуальном, сколько на метафорическом уровне: на героя давят, с одной стороны, сверхскорости мегаполиса, а с другой – навязчивость собственных мыслей.
Столь разноплановое прочтение индустриально-городской среды, кажется, отражает содержательную амбивалентность самой эпохи девяностых. Удручающее окружающее пространство, поданное без прикрас и эстетического переосмысления, напрямую соотносится с реальностью того времени. Но подобный подход совершенно противоречит идее притягательного стиля жизни, упакованного в красивую, блестящую картинку, что для клиповой индустрии девяностых было главным и непреложным принципом существования. Поэтому параллельно с прямолинейной фиксацией разрухи появляются клипы, в которых эта разруха становится предметом любования и даже культа. Такое переосмысление «родного пепелища» ведется по технологиям западной массовой культуры, но заставляет по-другому взглянуть на собственный окружающий пейзаж, увидеть в нем незапланированное обаяние и отчасти примириться с действительностью. Реальность, которая в социально-политической плоскости стыдливо замалчивается (унылые городские окраины, закрывающиеся заводы и разваливающаяся вместе с ними тяжелая промышленность), новая поп-музыка превращает в арт-объект, придавая ей новую символическую ценность: кто знает, возможно, современная российская джентрификация отчасти есть следствие этой нехитрой романтизации.
Осколочный миф
Особенности пространственной среды – это лишь один из множества аспектов, с помощью которых можно попытаться «заархивировать» музыкальные клипы девяностых годов. Представить их исчерпывающую характеристику крайне сложно ввиду мозаичности как жанра, так и самой эпохи. Но даже такой точечный обзор показывает, какой большой и семантически насыщенный путь прошла музыкальная индустрия за исторически короткий временной отрезок. С одной стороны, она активно впитывала и переосмысливала стандарты западного формата – порой неумело и аляповато, но всегда смело и вдохновенно. С другой стороны, популярная музыка подспудно закрывала предыдущую, советскую, эпоху, то вступая с ней в открытое противостояние, то бессознательно переосмысливая ее лейтмотивы.
Как известно, искусство, даже уходя от реалистического дискурса, продолжает фиксировать картину мира своего времени. Клипы девяностых, пусть и не стремясь к тому, стали зеркалом эпохи девяностых, запечатлели ее атмосферу. Они не сложились в какую-то связную и устойчивую картину мира, потому как ее не было и в реальности. Клипы были осколками и обрывками разрушенного стабильного мира, из которых складывались новые разрозненные миры, мифы, иллюзии.
Благодаря своей всеядности клипы поставляли зарисовки новых умонастроений, актуальных поведенческих и эстетических трендов. Этот родовой принцип клиповой культуры – свободное смешивание всего со всем как нельзя лучше рифмовался с духом свободного брожения, характерным для всего десятилетия. Клипы 1990‐х демонстрировали хаотичное наслоение стилей, образов, героев и их поведения. Столь же нелинейными были отношения между музыкой, словами песни и ее визуальным воплощением. В рамках одной композиции могли соседствовать лапидарный мотив, нечаянно-философский смысл и по-карнавальному пестрый видеоряд (таких примеров много в творчестве Шуры и, как ни странно, Андрея Губина).
Другим свойством клиповой культуры, который ярко соотносился с эпохой, стала скорость. Идея ускорения социальных процессов была одним из главных лозунгов перестройки, а в девяностые стала реальностью. Плотность информации и событий, быстрая смена лидеров и их статусов, колоссальная динамизация жизни общества – все это, пусть и опосредованно, оказалось созвучным мелькающей эстетике видеоклипов. Причем осмысленность и того и другого мельтешения одинаково вызывала сомнение.
На фоне современных клипов клипы 1990‐х выглядят крайне наивными и часто технически несовершенными, но в большинстве из них есть подкупающая искренность в воплощении даже самых сумасбродных сценариев. Неслучайно на волне ностальгии по девяностым поп-звезды наших дней усердно копируют не только тексты и саунд поп-песен того времени, но и воспроизводят визуальные мемы в своих видеоклипах (Тима Белорусских – «Витаминка», Дима Билан & Polina – «Пьяная любовь», Aleks Ataman & Finik – «Ой, подзабыли». И если в клипах 1990‐х китч возникал незапланированно, зачастую был следствием избытка идей и скудности технических ресурсов, то китч в современном музыкальном видео выглядит крайне цинично – он «паразитирует» на слабостях «покойного», но совершенно не отражает его исходный характер, его болезненную сложность.
Глава 8
«СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ»: РЕСАЙКЛИНГ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 358
Телевизионный музыкальный проект «Старые песни о главном», выходивший на Первом канале в 1995–2001 годах, запустил мощный медийный тренд на реактуализацию советской эпохи. Первые три выпуска «Песен…» не только представили весьма причудливую ретроспективу советской популярной культуры (музыки, кино, телевидения, социального быта), но и диагностировали социокультурную парадигму 1990‐х годов. Несмотря на изначально коммерческий характер и развлекательность, передача аккумулировала противоречивые смыслы, связанные с анализом прошлого и фиксацией настоящего.
«Старые песни о главном» отразили процесс абсорбирования современной отечественной поп-культурой наследия культуры советской. Как отмечает Альмира Усманова, «поп-культура сориентировалась гораздо раньше литературы или кино, уловив социальную и политическую конъюнктуру, и выжала из советской песенной культуры все, что смогла» 359. Меж тем Роберт Бэрджойн, анализируя схожие тенденции в отношении реактуализации рок-музыки ХX века в США, делает очень важное наблюдение, отчасти объясняющее, почему именно популярная культура оказывается флагманом в процессе социально-исторической рефлексии:
Коммерческая переработка прошлого является формой поминовения (commemoration), которая все чаще принимает форму обращения к наследию <…>. Возможно, даже более влиятельная, чем официальная память в настоящее время, коммерческая культура инициирует дискурсы памяти, обращаясь к коммерческим продуктам и образам как к одному из аспектов национального наследия <…>. Наряду с другими институтами американской массовой культуры, такими как кино и телевидение, музыкальная индустрия ревностно увековечивает и себя, часто претендуя на роль хранителя прошлого нации 360.
То есть интерес к советской культуре, и в частности советской эстрадной музыке, необходим как для сохранения памяти, так и для развития современной поп-культуры, с помощью обращения к прошлому наращивающей собственные смыслы.
«Старые песни о главном» уловили тренд, который сегодня кажется закономерным и повсеместным. Однако, чтобы понять всю революционность обращения к советскому в середине 1990‐х годов, необходимо вспомнить, насколько иным был ландшафт популярной культуры того времени.
С распадом Советского Союза у людей появился доступ к зарубежной популярной культуре. Так, телевидение начала 1990‐х годов было нацелено на