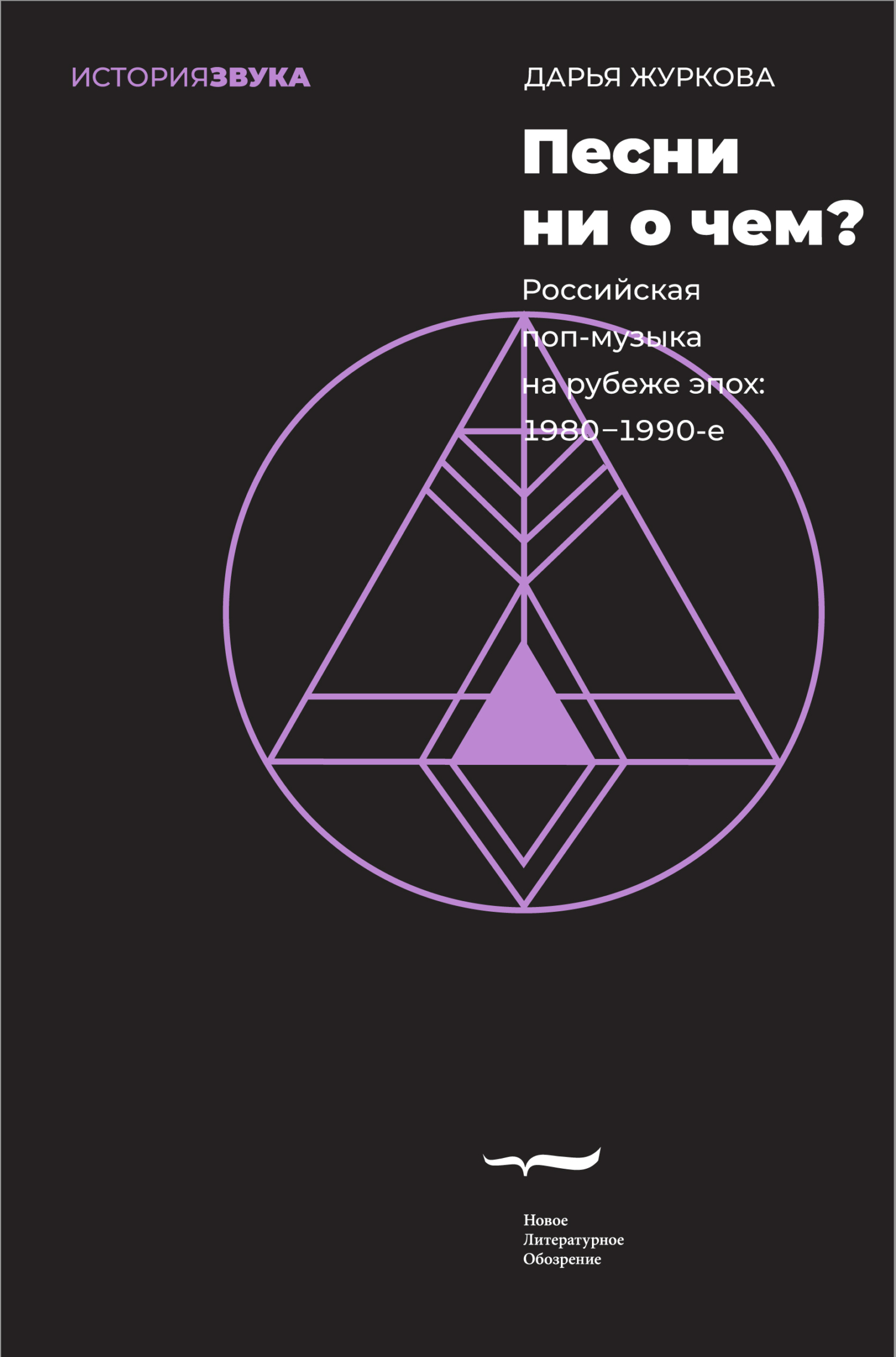(Stumblin’ In 394, I Will Survive 395, Rasputin 396). В советское время большинство этих шлягеров прозвучало в телепередаче «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» 397. В рамках «Старых песен о главном» в паре с западными артистами прошлых лет выступали популярные исполнители современной отечественной эстрады 398. Таким образом, продюсеры программы осуществляли символичное братание поп-звезд сквозь время и континенты, что было точно неосуществимо в СССР. Тем самым они вновь постфактум переписывали историю популярной музыки, теперь уже не только отечественной, но и зарубежной.
В-третьих, отдельный репертуарный пласт «Старых песен о главном – 3» составили всевозможные разновидности любовной лирики. Из музыки к кинофильмам отдавалось предпочтение шлягерам, посвященным любовным переживаниям героев («Ищу тебя» 399, «Мне нравится» 400, «Эхо любви» 401). Расцвет эпохи ВИ 402А был проиллюстрирован хитами, спетыми от лица юношей, воздыхающих о девушках («Алешкина любовь» 403, «Для меня нет тебя прекрасней» 404, «Звездочка моя ясная» 405). Причем, как справедливо рассуждает Юрий Дружкин, в песнях ВИА история разрушенных отношений зачастую не портит праздничного настроения:
Под эти песни танцуют и веселятся. А кто кому снится или не снится, кто и почему «шла с другим», и как это «я влюблюсь в другую лучше», никого всерьез не волнует. Ибо серьезное восприятие подобных коллизий сильно расходилось с господствующим в то время и в той среде «танцевальным мироощущением». В этом мироощущении нет ничего страшного. Здесь <…> не может быть серьезных трагедий, а лишь досадные недоразумения 406.
Именно такое беззаботное мироощущение оказалось востребованным в контексте как новогодней программы, так и развлекательной культуры девяностых в целом.
По сути, в «Старых песнях о главном – 3» практически не осталось песен экзистенциального характера. Внебудничные размышления и непраздничные эмоции в новогодней программе были строго дозированы. На этом фоне практически философскую глубину обрели играющие на сентиментальных чувствах песни-размышления о жизненном пути (песня из кинофильма «Генералы песчаных карьеров» 407, «Есть только миг» 408, «Надежда» 409). Драматичные «Кони привередливые» 410 в самом конце программы, с одной стороны, представляли пласт неофициальной советской эстрады, а с другой, скорее должны были усилить накал подогретых алкоголем чувств телезрителей, а не подразумевали проникновение в метафорический смысл слов.
Таким образом, мы вновь видим искажение исходной палитры эстрадной музыки, что полностью отвечает принципам ресайклинга. В выборе композиций для третьего выпуска «Старых песен о главном» заявляла о себе не столько воссоздаваемая эпоха 1970‐х, сколько воссоздающая эпоха 1990‐х с ее культом приватного мира, западного образа жизни и максимальным абстрагированием от проблем окружающей действительности. Заново сконструированный звуковой фон другой эпохи уводил прочь от современности, но в то же время и не погружал по-настоящему в минувшее. Было создано мифическое аудиовизуальное пространство, зависшее между историческими периодами и подсвечивающее каждую эпоху необходимыми красками, осуществляющее из будущего гламуризированную ретушь ушедшего времени.
Неслучайно на протяжении всех трех выпусков «Старых песен о главном» продюсеры выбирали для «переработки» преимущественно музыку из кинофильмов, откликаясь на начинавшуюся в стране моду на ремейки 411. Помимо колоссальной популярности самих песен, авторы проекта получали отправную точку для (ре)конструкции типажа героя и окружающей его среды. И если в первом выпуске телепроекта были очевидны прямые сюжетные и визуальные цитаты из первоисточников, то к третьей части авторы «Старых песен о главном» все смелее играли с контекстом, помещая песню из одного фильма в сюжетно-стилистические декорации другого. Важно отметить, что именно киномузыка, с ее яркой хара́ктерностью, сюжетной и визуальной предустановленностью позволяла активно и наглядно трансформировать исходную художественную реальность, заново пересобрать характеры героев и обстоятельства действия, то есть внедриться не только в историческое прошлое вообще, но и в структуру конкретного автономного произведения искусства.
Исполнительская манера
«Старые песни о главном» не только адаптировали под современность историю советской эстрадной музыки, но и провели кардинальный пересмотр манеры пения и тембров исполнителей. Ведущую роль в этой «реинвентаризации» эстрадных голосов, безусловно, сыграла новая эпоха. Осуществленная в телепроекте ретроспектива продемонстрировала колоссальный разрыв между вокальной школой советских и современных популярных певцов. Певческая манера отражала свое время, иначе говоря, в изменении тембров исполнителей важно услышать собственный голос (запрос) определенной эпохи.
Анализируя особенности классической советской песни 1930–1950‐х годов, Юрий Дружкин говорит о «равновесии песни и пения. И то и другое должно было быть одинаково безупречным. Песенное исполнительство опиралось преимущественно на академическую вокальную школу. А школа эта, помимо прочего, включала в себя серьезную актерскую подготовку» 412. Таким образом, классическая вокальная выучка и «актерский подход к работе со словом, интонацией, образом в целом» 413 обеспечивали высокий, профессиональный уровень исполнительской манеры эстрадных певцов сталинской эпохи.
С 1960‐х годов происходит постепенное размывание академической безупречности в исполнительском интонировании. По мнению Татьяны Чередниченко, этот процесс начался с появлением на советской эстраде Майи Кристалинской, когда
вокал стал обрастать стилизованными форсировками, моделировать эмоциональное и физическое усилие, культивировать напряженность. Близость к микрофону, доносившему призвуки дыхания, раскрывала «нутро» для слуха публики, превращала услышанное певческое усилие в художественный факт, едва ли не более значимый и во всяком случае больше волнующий, чем мелодия и слова. Тем самым на первый план выдвигалась личность исполнителя и притом в ореоле некоего страдания (эмоционально-смысловой эквивалент физиологического напряжения при пении) 414.
Вплоть до середины 1980‐х годов на советской эстраде существовало своеобразное «двоемирие» тембров. С одной стороны, присутствовали бархатистые, темброво богатые голоса с академической выправкой, широкого, везде одинаково хорошо озвученного диапазона. Обладателями таких голосов были: Муслим Магомаев, Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, Нина Дорда, Мария Пахоменко, Анна Герман, Валентина Толкунова, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко. В большинстве случаев они неразрывно связывались с официальным дискурсом, выступали аудиовизуальной квинтэссенцией положительного образа советского человека. С другой стороны, в 1960–1980‐е годы на этой же эстраде, но символически «во втором отделении концерта» заявляли о себе исполнители совсем другого плана: Эдита Пьеха, Гелена Великанова, София Ротару, Елена Камбурова, Алла Пугачева, Клара Румянова, Олег Анофриев, Валерий Леонтьев. Их манера пения не стремилась к безупречности: иностранный акцент у Пьехи, андрогинно-подростковый тембр у Камбуровой, «детский» тембр Румяновой, надрывное интонирование у Пугачевой. Выводя на первый план отнюдь не совершенную личность лирического героя своих песен, эти артисты создавали ощущение, что человеческое начало в их интерпретации превалирует над профессиональными требованиями к вокалу. Они начали воплощать новый, альтернативный канон не только в музыкально-исполнительской, но и в визуально-поведенческой манере. Прорываясь сквозь цензурные ограничения, эти певцы (особенно Камбурова, Пугачева и Леонтьев)