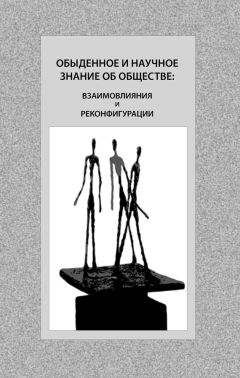Конечно, массовое, как уже говорилось, не исчерпывает социального. Оно не отменяет и не заменяет других измерений общества и культуры (системы институтов, совокупности групп, уровней личности), в связи с которыми только и «работает». Вместе с тем неверно считать его аморфным, бесструктурным. Во-первых, сами массовые феномены (массовая культура, в частности) поддерживаются и воспроизводятся институциональными структурами — организованными системами массовой коммуникации, публичными празднествами или соревнованиями и проч. Во-вторых, среда межличностной передачи образцов массовой культуры (скажем, серийных выпусков любовного романа или пересказов вчерашней серии «мыльной оперы») тоже структурирована. Но эта структура задана собственно социальными статусами и взаимоотношениями участников, сложившимися до или вне самой данной коммуникации, и обусловлена распределением их социальных статусов и половозрастных ролей. Здесь есть свои лидеры, но их лидерство опирается на устойчивые сети повседневных неформальных коммуникаций (ср. идею двухступенчатой коммуникации у Лазарсфельда и Берельсона), оно не автономизировано до роли знатока, не специализировано до профессии критика.
Наконец, само действие каналов массмедиа (а во многом и развертывание сюжета массовых повествований любого жанра) дополнительно структурируется постоянным «внутренним» сравнением, сортировкой, соревнованием, выявлением «первых» и отбраковкой «последних» (викторины, конкурсы, шоу, рейтинги, премии за победу и за участие). Можно сказать, что символически «равные» (заданные как любые, как «люди с улицы») играют здесь в неравных: условное приравнивание, наличие общей меры — обязательная предпосылка возможности сравнения и соревнования. «Гений» из репертуара культуры XIX в. выступает в массовой культуре «звездой», а дальше сами «звезды» именно по принципу известности входят во всевозможные конкурсные жюри, так что теперь уже их внимание становится наградой, призом, а их выбор выводит на сцену новое поколение «звезд» и т. д. Понятно, что для разных аудиторий — скажем, журналов «Cosmopolitan» и «Семь дней» — приходится говорить о «звездах» разной величины или о разных «проекциях» одной и той же «звезды». Это тоже область микроразличий, через которые идет воображаемая, символическая идентификация, дифференциация и интеграция различных кругов и уровней внутри самого этого массового уровня культуры.
Подобные игры в «другого» — характерный феномен взаимоотношений массовой и классической, а также массовой и поисковой, первооткрывательской культуры. Переход образца на другой уровень (в том числе в истории обществ) отмечается сменой модальности его бытования и восприятия — от «посвящения» к «просвещению» и т. д. При этом, скажем, то, что для высокой культуры — ценностный принцип (качественный предел, недостижимое совершенство), становится в массовой культуре предметом достижения («призом»), трансформируется в фигуру идеального героя, выступает фабульной деталью или двигателем сюжета (достижение человеческой солидарности, полноты переживаний, завоевание той или иной позиции в обществе, делового успеха и признания). И напротив: содержательные императивы поведения или аспекты действия в сфере массовой культуры при заимствовании культурным авангардом (а это для XX в. — обычная практика) формализуются, становятся «орнаментальным» элементом стиля.
Массовая культура в современной России: на примере одной разновидности литературных образцов
В принципе типовые массовые «истории» выступают инструментом опосредования напряжений, возникающих в тех или иных группах, слоях общества на определенных фазах социального развития, — средством смягчения конфликтов между общими, групповыми и индивидуальными интересами, ценностными императивами, нормами поведения, которые диктуются разными, нередко противостоящими друг другу инстанциями, группами, институтами. Снятие этих травматических моментов происходит через их условное перенесение на фиктивные конструкции «героев» и воображаемые взаимоотношения между ними. Героями массовых повествований, как правило, выступают «обычные», социально узнаваемые персонажи — действующие опять-таки в узнаваемом, типизированном окружении носители предписанных признаков (прежде всего — половозрастных) и социальных ролей (профессиональных, семейных). Этой узнаваемостью героев поддерживается читательская и зрительская идентификация с ними; вместе с тем непривычные, даже «невероятные» фигуры и мотивы обеспечивают вовлеченность захваченной публики, выступают стимулом, двигателем интереса (тривиализация невероятного — распространенный сюжетный мотив массового искусства).
Если характеризовать собственно содержание, семантику образцов, несомых массовой культурой и техническими средствами ее тиражирования, то они, говоря коротко, соединяют новое, дистанцированно-тестирующее и утверждающее реципиента в своей нормальности отношение к себе и другим с литературной, кинематографической и др. разработкой, обсуждением, репрезентацией конфликтов, уходящих корнями в ближайшее прошлое. В частности, на таких отсылках к ближайшему прошлому — своеобразным рубежам, от которых отсчитывается последующий распад, в который встроены и ритмы смены поколений, учебы, начала трудовой деятельности, обзаведения семьей, жильем и т. д., — построены отечественные боевики В. Доценко и Д. Корецкого, детективы Н. Леонова и А. Марининой (равно как аналогичные фильмы). О боевиках уже писалось (см. статью в настоящем сборнике), несколько слов о Марининой[361].
Источники сюжетных конфликтов в ее романной саге — пресловутый, в каждом романе встречающийся мотив «скелета в шкафу» — относятся к периоду 20–25-летней давности, брежневско-андроповской, сравнительно «вегетерианской» эпохе, которая, кстати сказать, по данным сегодняшних массовых опросов, выступает для ностальгирующих россиян «лучшим временем» в истории XX в. Итак, герои, спровоцировавшие романный конфликт, — поколение родителей нынешних взрослеющих детей. Дети и сталкиваются с последствиями сделанного или не сделанного (особенно — несделанного!) родителями — вчерашними интеллигентами, включая писателей, переводчиков, кинематографистов, вчерашней номенклатурой, в том числе — закрытых и силовых ведомств, и вчерашней «лимитой»; все три перечисленных контингента, заново адаптирующиеся в текущей ситуации, пребывают в социально напряженных отношениях друг с другом — как исторических, так и актуальных. Эмоциональный фон повествования — нежелание взять на себя ответственность за сделанное у героев — источников конфликта, вообще несостоятельность большинства мужских героев (заласканных в детстве «виноватыми» и нереализовавшимися родителями — сухой, холодной, слишком занятой собою матерью, «слабым», нередко пьющим или больным, отцом), наконец, нежелание что бы то ни было делать у центральной героини. Она отрезана от человеческих связей, вообще некоммуникабельна, не переносит других (они для нее в тягость, их лучше избегать), не имеет семьи (во многих романах серии) и детей. Героиня внешне неприметна («тихая забитая серая мышка»), она всегда усталая, плохо себя чувствует (хронические болезни, простуды, нервные срывы) и берется за свое профессиональное дело только в самую последнюю очередь, после полного изнеможения и отупения, с жесточайшим трудом преодолевая себя (привычный астенический синдром, жизнь как бремя, скука несамостоятельного, подневольного существования — отсюда мотивы гипнотической завороженности, незаметного и непобедимого экстрасенсорного воздействия, облучения и зомбирования, подстерегающего безумия и насильственной смерти).
Вокруг героини — так называемый «беспредел»: множественность несовместимых норм, образцов, кодов социального существования, откуда — привычная грубость нравов и ненормативность языка[362], повседневная — и диффузная, и вполне концентрированная, институциональная — агрессия, включая коррупцию и преступность в самих органах дознания и наказания. Следственные и пенитенциарные институты уже давно потеряли привычное алиби «временности» преступлений в советском обществе и вообще всякий моральный смысл — государственную легенду — того, чем они занимаются и кого ловят. Под подозрением теперь всё и все, кроме единственной ниточки, связывающей героиню с ее начальником (и еще двумя фигурами власти — таинственным золотоглазым генералом и всемогущим мафиозо).
Однако эти ужасы не отвратительны и не абсурдны, не мучительны и не безнадежны. Они — это крайне важно — не смакуются (нормализующее «женское письмо» в отличие от брутального мужского а-ля Доценко, Корецкий или Ч. Абдуллаев) и в конце концов как бы преодолеваются по ходу развития сюжета (сериал не может быть трагическим). В соединении этих картин с читательско-зрительским к ним отстраненным отношением, нормального, нераздражающего, эклектического, можно сказать, «никакого» («нулевого») авторского письма[363] с сознанием у читателя приобщенности к широчайшим кругам ему подобных («это читают и смотрят все») — источник двойственных, но в конце концов позитивных переживаний сегодняшней массовой публики. Последняя находит образец, удостоверяющий ее существование в основных смысловых параметрах как норму, и, признавая этот образец в самых широких масштабах, делает нормой, узаконивает теперь уже его.