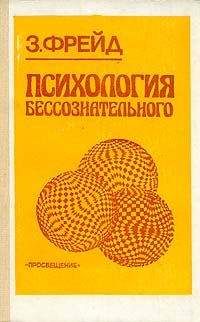заслуживающее самого пристального внимания. Этот автор отмечает тот любопытный факт, что никто обыкновенно не желает признавать своих обмолвок. Встречаются вполне разумные и честные люди, которые обижаются, если им говорят, что они обмолвились. Я не решился бы обобщать столь уверенно, как это делает Мерингер, но тот след аффекта, который остается при обнаружении обмолвки и который, очевидно, вызывает чувства стыда, не лишен значения. Его можно сравнить с тем чувством досады, которое мы испытываем, когда нам не удается вспомнить забытое имя, или с тем удивлением, с каким мы встречаем какое-то сохранившееся у нас в памяти несущественное воспоминание. Этот аффект явственно свидетельствует о том, что в возникновении расстройства ту или иную роль сыграл какой-либо мотив.
При намеренном искажении имен происходящее воспринимается сродни оскорблению, и тем же значением искажение обладает, надо думать, в целом ряде случаев, когда проявляется в форме непреднамеренной обмолвки. Человек, упомянувший, по словам Мерингера и Майера, Freuder вместо Freud – по той причине, что чуть раньше он назвал имя Breuer [78], – а в другой раз сослался на метод лечения Freuer-Breud, принадлежал, наверное, к числу моих коллег по профессии, уж точно к тем, кто не особенно был восхищен этим методом [79]. В главе об описках я приведу другой случай искажения имен, вряд ли поддающийся иному объяснению.
В этих случаях в качестве расстраивающего фактора проявляет себя критика, которую приходится пропускать, так как в текущее мгновение она не отвечает намерениям говорящего.
Либо же замена одного имени другим, принятие чужого имени, отождествление с кем-либо посредством обмолвки должны выражать одобрение, которое по какой-то причине остается временно невысказанным. Опыт такого рода из школьных дней описан Шандором Ференци:
«Когда я учился в первом классе гимназии, мне впервые в жизни пришлось публично (т. е. перед всем классом) читать стихотворение. Я был хорошо подготовлен, а потому меня смутил взрыв смеха, раздавшийся в самом начале. Учитель впоследствии объяснил, почему я удостоился столь странного приема. Я сказал, что буду читать стихотворение “Издалека”, и это соответствовало истине, но вот автором назвал себя. Поэта же звали Александр (по-венгерски Шандор) Петефи. Подмене имен способствовало то обстоятельство, что мы носили одинаковое имя; но настоящая причина, несомненно, заключалась в том, что в ту пору я тайно отождествлял себя в своих мечтах с прославленным поэтом-героем. Даже в сознательном восприятии мои любовь и восхищение перед ним граничили с идолопоклонством. Весь жалкий комплекс честолюбия, разумеется, тоже скрывался за этой оговоркой».
О подобном же выражении уважения посредством подмены имен сообщил мне один молодой врач. Он робко и благоговейно представился знаменитому Вирхову [80] как «доктор Вирхов». Профессор удивленно повернулся к нему и спросил: «О, ваша фамилия тоже Вирхов?» Уж не знаю, чем этот честолюбивый молодой человек оправдал свою оговорку: то ли полагался на льстивое оправдание, будто ощущал себя таким ничтожным рядом с великим человеком, что его собственное имя попросту не могло не выпасть из памяти; то ли он имел мужество признать, что надеялся когда-нибудь стать таким же великим, как настоящий Вирхов, и потому умолял профессора не относиться к нему пренебрежительно. Одна из этих двух причин – или, может быть, обе сразу – могла смутить молодого человека, когда он представлялся.
По мотивам исключительно личного характера я должен оставить открытым вопрос о том, применимо ли подобное истолкование к следующему случаю. На международном конгрессе в Амстердаме в 1907 г. [81] моя теория истерии была предметом оживленного обсуждения. В обличительной речи против меня один из моих самых стойких противников неоднократно допускал оговорки, которые выражались в том, что он как бы ставил себя на мое место и говорил от моего имени. Например, он сказал: «Хорошо известно, что мы с Брейером доказали…», явно имея в виду только «Брейер и Фрейд». Имя моего оппонента не имеет ни малейшего сходства с моим собственным. Этот пример, наряду со многими другими случаями, когда оговорка приводит к подмене одного имени другим, может служить напоминанием о том, что подобные обмолвки нередко лишены всякого сходства по звучанию, что они обусловливаются исключительно некими скрытыми факторами.
В других случаях, гораздо более значительных, к обмолвке и даже к замене задуманного слова прямой его противоположностью понуждает самокритика, внутреннее сопротивление собственным словам. В таких случаях с удивлением замечаешь, как измененный таким образом текст какого-либо утверждения опровергает намерение говорящего и как ошибка в речи вскрывает неискренность сказанного [82]. Обмолвка становится здесь миметическим способом выражения; зачастую она выражает то, чего человек не хотел говорить, и так выдает его истинные побуждения. Например, мужчина в своих отношениях к женщине не питает склонности к так называемым нормальным отношениям; он вмешивается в разговор о девушке, известной своим кокетством (kokett), со словами: «Если бы она связалась со мной, то быстро отказалась бы от своего koettieren». Не подлежит сомнению, что здесь предполагалось другое слово, а именно koitieren (иметь соитие), под влиянием которого и случилась подмена слова kokettieren (флиртовать, кокетничать). Или возьмем следующий случай: «Наш дядя в последние месяцы сильно обижался, что мы перестали его навещать. Поэтому, когда он переселился в новый дом, мы сочли это поводом для давно назревшего визита. Он вроде бы очень обрадовался нам, а на прощание сказал с большим чувством: “Я надеюсь, что отныне буду видеть вас еще реже, чем прежде”».
Когда языковой материал оказывается благоприятным, часто случаются оговорки, которые обладают позитивно сокрушительным эффектом откровения – или же воспринимаются как чрезвычайно забавные шутки. Так обстоит дело в следующем примере, который наблюдал и сообщил доктор Райтлер [83].
«Какая прелестная новая шляпка! Полагаю, вы сами ее aufgepatzt (букв. “вымазали” вместо aufgeputzt – “выкроили”. – Ред.)?» – с восхищением спросила одна дама у другой. Иных похвал у нее не нашлось; насмешка и критика – силуэт шляпы (Hutaufputz) был, по ее мнению, «провальным» (patzerei) – слишком недвусмысленно выразились в недружелюбной оговорке для того, чтобы любые дальнейшие светские фразы звучали убедительно.
Критика, содержащаяся в следующем примере, видится более мягкой, но все равно кажется вполне прямой.
«Дама, которая навещала свою знакомую, сильно утомилась от многословных бесед и стала проявлять нетерпение. Когда ей наконец удалось вырваться и она собралась уйти, ее задержал новый поток слов от собеседницы: та вышла в переднюю и заставила гостью остановиться буквально на пороге. В конце концов дама прервала хозяйку вопросом: “Вы дома в передней (Vorzimmer)?” Изумленное лицо хозяйки подсказало, что дама допустила оговорку. Устав от долгого стояния в передней, она намеревалась оборвать разговор вопросом: “Вы дома