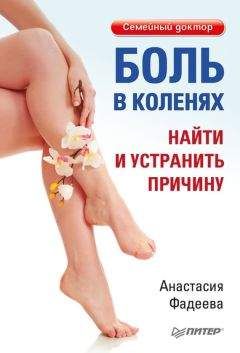мире, чувство социальной связи. Все эти вещи позитивны и могут создать удовольствие, но в данный момент в этом немедленном эффекте также присутствует болезненность процесса.
Я верю, благодаря исследованиям, интервью и личному опыту, что использование болезненных ощущений ради них самих – это повседневная часть человеческого бытия. Я думаю, что способность искать боль и извлекать из нее пользу заложена в нас, встроена в пользовательские руководства, которые установлены в наших арендованных телах приматов.
Бастиан в книге «Оборотная сторона счастья» пишет: «Интуиция, что получать удовольствие от боли не только ненормально, но и аморально, очень сильна. Однако, как и в случае со многими другими интуициями, когда вы останавливаетесь и действительно анализируете это предположение, все становится немного менее ясным. Мы получаем удовольствие от многих вещей в жизни и ищем занятия, которые нам это обеспечат, так чем же отличается боль?» Эти два понятия настолько неразрывно связаны и пересекаются, что с годами я перестала пытаться провести четкую грань между ними. «Понимание связи между переживанием удовольствия и переживанием боли, однако, показывает, что все мы получаем удовольствие от боли».
И действительно, все это делают. «Хотя мы можем увидеть нечто зловещее в тех, кто занимается более экстремальными или сексуализированными мазохистскими практиками, существует гибкая шкала, включающая множество общепринятых форм получения удовольствия от боли».
Мы смотрим на экстремалов – флагеллантов, мучеников, монахов – и видим, как отражается в нас наша собственная способность к целенаправленному страданию, наша склонность к правильному виду боли. Мы видим, как боль уменьшает чувство вины, создает смысл, обозначает переход, отмечает особый случай. В этой нарочитой боли есть одновременно и благочестие, и профанация. Именно поэтому глава начинается с отчаянных флагелляций религиозных фанатиков и продолжается на бетонном полу полупустой арены, где высоко вверху болтается женщина, подвешенная за колени.
На тату-конвенции в Эшвилле мало посетителей, особенно если учесть, что сейчас десять часов, вечер субботы, а на сцене суетятся артисты. Вокруг меня люди праздно тыкают в телефоны, пока художники вонзают иглы в их кожу, каждый откидывается назад, и те, кто принес на сеанс подушки, одеяла и книги, которые можно подложить под грудь, выглядят как древние гении. Все эти люди платят деньги за то, чтобы вытерпеть что-то болезненное и получить что-то взамен. Постоянное искусство, эндорфины, автономия – причин много, но у всех одна. Невозможно отрицать, что татуировки – это больно. Знакомое жужжание тату-пистолетов заставляет мою кожу чесаться от желания сделать еще одну, но я не обращаю на это внимания. Кроме того, я работаю и не в настроении растянуться на липком массажном столе в подвале Harrah’s Cherokee Center.
Это здание имеет странную форму, похожую на брутальную бетонную летающую тарелку. Снаружи его использовали как съемочную площадку; по непонятной причине к нему добавили пальмы и выдавали за мексиканский аэропорт. Однажды я исполняла «Испанский шоколад» из «Щелкунчика» наверху в огромном, тепло освещенном зале с Московским балетом (и с Сарой!). Где-то здесь проходит распродажа джакузи, о чем я знаю, потому что кто-то повесил множество желтых табличек с рекламой через каждый метр вдоль тротуара на улице. Но я не вижу никаких джакузи. Я не знаю, что еще сказать, здесь просто странная энергетика.
На сцене горстка артистов в дорогих костюмах, которым, вероятно, не платят достаточно, чтобы нанять их выступать для этой безразличной публики, и которые, конечно, и близко не получают причитающуюся им компенсацию за то, что вынуждены терпеть кошмар холодного флуоресцентного освещения. Исполнительница сайд-шоу собирает свое снаряжение у края сцены; под ее сеточкой несколько маленьких белых квадратиков туалетной бумаги, пропитанных кровью, в тех местах, где зрители прикрепляли к ее телу степлером мелкие купюры. Высокая светящаяся женщина, одетая как Уэнсдей Аддамс, дарит крупному хихикающему мужчине в шортах приватный танец после того, как привязала его к стулу электрическими проводами и закрыла ему лицо. Другая женщина заглатывает банан целиком. В финале на сцену поднимается огромный воздушный шар. Как я уже сказала, энергетика какая-то странная. А я здесь, чтобы увидеть, как люди летают.
Как только танец завершается, Стив Труитт и его команда, занимающиеся подвешиванием людей, начинают перемещать немногих оставшихся зрителей подальше от места, где они будут подвешивать людей на крюках, создавая четкую границу на голом бетонном полу между артистами и немногочисленной «толпой». Песня Стиви Никс «Edge of Seventeen» звучит на арене, звонким эхом разносясь по пустому залу и оставаясь практически без внимания. Интересно, каково это, наблюдать нечто подобное? Для человека, который ищет острых ощущений, смотрит видео с хирургических операций, я очень чувствительная, мягкая, как пудинг, я совсем ребенок, так что я знаю, что могу плохо отреагировать на вид человека, подвешенного за колени. То есть, черт, у меня текут слезы от страха высоты, когда я смотрю мультфильмы с воздушными шарами. Мазохизм принимает все формы.
Я чувствую прилив адреналина, когда смотрю, как такелажники манипулируют канатами и серьезно разговаривают друг с другом, наклонив головы. Мне еще это неизвестно, но летающие находятся на такой высоте от земли, что падение на пол катастрофично. Подготовка к этому подвигу жизненно важна. Для меня есть место в первом ряду. Рядом со мной – второклассник. Здесь почти как в церкви.
У первого человека, который собирается летать, есть два пирсинга в верхней части спины, что означает, что он будет висеть в так называемом подвесе самоубийцы – в вертикальном положении повешенного. Он будет не буквально висеть на крюках; у него есть два широких штанговых пирсинга над лопатками. Такелажники прикрепляют его к веревкам, и он выходит на открытый пол; мягкое, сильно татуированное тело без рубашки выглядит бледным под заводскими лампами. Я чувствую, как кровь приливает к моему лицу, затем к ногам, как будто тело не может определить, краснею я или вот-вот потеряю сознание. Мужчина начинает поднимать человека в воздух, пирсинг натягивает кожу. Меня подвешивали на веревках – правда, не за кожу, – но я знаю этот головокружительный момент, когда на полу остаются только кончики пальцев и кажется таким невероятным, что отсутствие контакта с землей вообще возможно. И вот человек поднимается в воздух.
Он кружится надо мной в брюках цвета хаки и коричневых кожаных ботинках, из кармана у него торчит тонкий катетер инсулиновой помпы; человек над толпой чертовски весел. Его лицо! Он улыбается! Дрыгая ногами, как маленький мальчик, и накручивая большие круги над притихшей толпой, он болтается под песню неизвестной металл-группы. (Хотя сейчас, когда я вспоминаю об этом, я не могу сказать, притихла толпа в том зале или это мои уши были настолько заполнены кровью, что