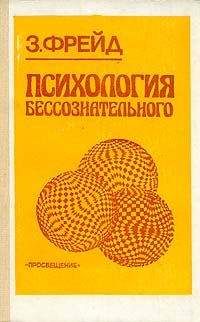класса; он разрывается между искренней социальной симпатией и общепринятыми взглядами его класса. В главе XXVI описывается, как он реагирует на письмо молодого бездельника, которому – под влиянием первоначального отношения к жизни – герой дважды или трижды помогал ранее. Письмо не содержит прямой просьбы о деньгах, но рисует картину великой беды и фактически выражает такую просьбу. Получатель сначала отвергает мысль расстаться с деньгами на безнадежную затею вместо того, чтобы использовать их на подлинную благотворительность. “Оказывать помощь человеку, не имеющему на то никаких прав, уделять ему частицу себя – пусть даже это выражается в дружеском кивке головой, – и все только потому, что этому человеку не повезло… какая сентиментальная глупость! Пора положить этому конец!” Но в ту минуту, когда Шелтон пробормотал эти слова, в нем шевельнулась врожденная честность. “Какое лицемерие! – подумал он. – Тебе, голубчик, просто жаль расстаться с деньгами!” [130].
После этого он написал дружеское письмо, которое заканчивалось словами:
“Посылаю Вам чек.
Искренне Ваш Ричард Шелтон”.
Тут внимание Шелтона отвлекла залетевшая в комнату ночная бабочка, которая принялась кружить около свечи; пока Шелтон ловил ее и выпускал на свободу, он успел забыть, что не вложил чека в конверт. Утром, когда он еще спал, лакей, придя чистить его платье, забрал вместе с ним и письмо. Так оно и пошло без чека.
Имеется, впрочем, и еще более тонкая мотивация потери памяти, нежели осознание эгоистичного намерения, по-видимому, совершенно естественного, то бишь стремления избежать потери денег.
В загородном поместье родителей своей будущей жены, рядом с невестой, ее семьей и гостями, Шелтон чувствовал себя одиноким; допущенная им ошибка указывает на то, что он тосковал по своему приятелю, который в силу бурного прошлого и определенных взглядов на жизнь представлял собой полную противоположность безукоризненной компании, единодушной в приверженности одному и тому же набору условностей. Действительно, тот человек, который больше не мог существовать без поддержки, прибыл через несколько дней, чтобы “получить объяснение, почему обещанный чек так и не прислали”».
Глава VII
Забывание впечатлений и намерений
Будь кто-нибудь склонен преувеличивать то, что нам известно ныне о душевной жизни, достаточно было бы указать на функцию памяти, чтобы заставить такого человека быть скромнее. Ни одна психологическая теория не преуспела пока в отчете об основополагающем явлении припоминания и забывания в его совокупности; более того, последовательный анализ фактического материала, который можно наблюдать, едва начался. Быть может, теперь забывание стало для нас более загадочным, чем припоминание, – с тех пор, как изучение сна и патологических явлений показало, что в памяти может внезапно всплыть и то, что мы считали давно позабытым.
Правда, мы установили уже несколько отправных точек, для которых ожидаем всеобщего признания. Мы предполагаем, что забывание есть самопроизвольный процесс, который можно считать протекающим на протяжении определенного времени. Мы подчеркиваем, что при забывании происходит отбор наличных впечатлений, равно как и отдельных элементов каждого впечатления или переживания. Нам известны некоторые условия сохранения в памяти и пробуждения в ней того, что без этих условий было бы забыто. Однако повседневная жизнь дает бесчисленное множество поводов осознать неполноту и неудовлетворительность нашего знания. Стоит прислушаться к мнению двоих людей, совместно воспринимавших внешние впечатления, – скажем, проделавших вместе путешествие, – которые обмениваются спустя некоторое время своими воспоминаниями. То, что у одного прочно сохранилось в памяти, другой нередко забывает, словно этого и не было; притом мы не имеем никакого основания предполагать, что данное впечатление было для первого психически более значительным, чем для второго. Ясно, что целый ряд факторов, определяющих отбор для памяти, от нас ускользает.
Желая прибавить хотя бы немногое к тому, что мы знаем об условиях забывания, я склонен подвергать психологическому анализу те случаи, когда мне самому приходится что-либо забыть. Обычно я занимаюсь лишь определенной категорией этих случаев – теми именно, которые приводят меня в изумление, так как ожидаю, что эти факты должны быть мне известны. Хочу еще заметить, что вообще я не расположен к забывчивости (по отношению к тому, что пережил, а не к тому, чему научился!) и что в юношеском возрасте я в течение некоторого короткого времени был способен даже на необыкновенные акты запоминания. В ученические годы для меня было совершенно естественным повторить наизусть прочитанную страницу книги, а незадолго до поступления в университет я был в состоянии записывать научно-популярные лекции непосредственно после их прослушивания почти дословно. В напряженном состоянии, в котором я находился перед последними медицинскими экзаменами, я, по-видимому, еще использовал остатки этой способности, ибо по некоторым предметам давал экзаменаторам как бы автоматические ответы, точно совпадавшие с текстом учебника, который был просмотрен всего единожды с величайшей поспешностью.
С тех пор способность пользоваться материалом в памяти у меня постоянно слабеет, но все же вплоть до самого последнего времени мне приходилось убеждаться в том, что с помощью искусственного приема я могу вспомнить гораздо больше, чем ожидаю от себя. Если, например, пациент у меня на консультации ссылается на то, что я уже однажды его видел, между тем как я не могу припомнить ни самого факта, ни времени, то я облегчаю себе задачу путем отгадывания: вызываю в своем воображении какое-нибудь число лет, считая с данного момента. В тех случаях, когда имеющиеся записи или точные указания пациента делают возможным проверить пришедшее мне в голову число, обнаруживается, что я редко ошибаюсь больше чем на полгода при сроках, превышающих 10 лет [131]. То же бывает, когда я встречаю малознакомого человека, которого из вежливости спрашиваю о его детях. Когда он рассказывает мне об успехах, которых те добиваются, я стараюсь вообразить себе, каков теперь возраст ребенка, проверяю затем эту цифру показаниями отца, и оказывается, что я ошибаюсь самое большее на месяц, а при более взрослых детях – на три месяца; но при этом я решительно не могу сказать, что послужило основанием вообразить именно такую цифру. Под конец я до того осмелел, что первым высказываю теперь догадку о возрасте, не рискуя при этом обидеть отца неосведомленностью насчет его ребенка. Таким образом я лишь расширяю свое сознательное припоминание, пробуждая бессознательную память, которая заведомо более богата.
Итак, далее я приведу поразительные случаи забывания, которые наблюдал по большей части на себе самом. Я различаю забывание впечатлений и забывание переживаний, то есть забывание того, что знаешь, и забывание намерений, упущение чего-либо. Забегая вперед, укажу, что результат всего этого ряда исследований один и тот же: во всех случаях