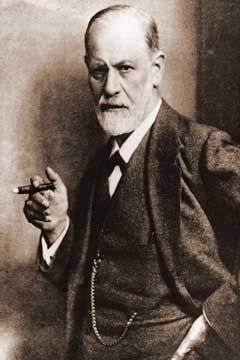которые можно признать специфическими мотивами. Первым основанием является обвинение в том, что евреи – пришельцы; упрек, пожалуй, наименее обоснованный, ведь во многих охваченных сегодня антисемитизмом местах евреи принадлежат к самым древним слоям населения или даже поселились в данной местности раньше ее теперешних обитателей. Например, это касается города Кёльна, куда евреи пришли вместе с римлянами до захвата его германцами. Другие обоснования этой ненависти выглядят убедительно – например, тот факт, что чаще всего евреи проживают среди других народов в качестве меньшинства, чувство же общности у широких масс требует дополнения еще и в виде неприязни к постороннему меньшинству, а малочисленность отщепенцев подвигает к их угнетению. Однако совершенно непростительны две другие особенности евреев. Во-первых, то, что в некоторых отношениях они отличаются от своих «народов-хозяев». Непринципиально, ведь они не азиаты, принадлежащие к другой расе, как утверждают их недруги, а состоят преимущественно из остатков средиземноморских народов и наследуют культуру Средиземноморья. Но все же они иные, часто отличаются чем-то неуловимым от других – в первую очередь нордических – народов, а нетерпимость масс проявляется, как ни странно, против малых различий сильнее, чем против фундаментальных. Гораздо сильнее действует вторая особенность, а именно то, что, невзирая на все притеснения и самые жестокие преследования, еврейский народ не удалось искоренить; более того, евреи демонстрируют способность утвердить себя в предпринимательстве и осуществлять там, где им это дозволено, ценные вклады во все виды культурной деятельности.
Более глубокие мотивы антисемитизма коренятся в давно минувших временах. Они действуют из бессознания народов, и я уповаю на то, что прежде всего они окажутся неправдоподобными. Рискну утверждать, что и в настоящее время еще не преодолена ревность других наций к народу, который выдает себя за первородного, предпочитаемого отпрыска бога-отца, как будто они поверили этим заверениям. Кроме того, среди обычаев, с помощью которых евреи обособляли себя, обычай обрезания производил неприятное, жутковатое впечатление, вероятно, тем, что напоминал о вызывающей страх кастрации, а тем самым затрагивал охотно забываемый фрагмент древнейшего прошлого. И наконец, самый последний мотив подобного рода: не следует забывать, что все эти народы, до сего дня выделяющиеся ненавистью к евреям, стали христианскими в более поздние времена, к чему их нередко принуждали с помощью кровавого насилия. Можно сказать, что все они «плохо крещены», что под тонким слоем христианской штукатурки они остались такими же, какими были их предки, поклонявшиеся варварскому политеизму. Они не преодолели всю неприязнь к новой, навязанной им религии, однако перенесли эту неприязнь на источник, из которого к ним прибыло христианство. Этот сдвиг облегчил им тот факт, что Евангелия сообщают историю, происходящую в еврейской среде, имеющую дело только с евреями. По сути, их ненависть к евреям – это ненависть к христианству, и не стоит удивляться, что в немецкой национал-социалистической революции эта тесная связь двух монотеистических религий довольно явно выразилась во враждебном обращении с обеими.
Д. Трудности
В предыдущем изложении нам, похоже, посчастливилось провести аналогию между невротическими процессами и религиозными событиями и тем самым выявить неожиданный источник последних. При этом перемещении из индивидуальной психологии в психологию массовую были обнаружены две трудности различной природы и значимости, к которым теперь мы и обратимся. Первая заключается в том, что здесь мы рассматриваем лишь один случай из обширной феноменологии религий, никак не проясняя остальные. С сожалением автор вынужден признать, что ему нечего предложить, кроме этого единственного примера, что его профессиональных знаний недостаточно для расширения поля исследования. На основе своих ограниченных познаний автор может разве только добавить, что учреждение мусульманской религии представляется ему сокращенным повторением утверждения иудаизма, подражанием которому она и является. Более того, вероятно, поначалу и сам пророк вместе со своим народом намеревался целиком принять иудаизм. Повторное обретение единственного великого праотца вызвало у арабов необычный подъем чувства собственного достоинства, что привело их к грандиозным земным успехам, но и к растрате себя в них. В отношении своего избранного народа Аллах повел себя благороднее, чем когда-то Яхве в отношении своего. Однако вскоре внутреннее развитие новой религии обернулось застоем, вероятно, потому, что ему не хватило глубины, причиной которой в иудаизме стало убийство его основоположника. Выглядящие рационалистическими религии Востока являются, по сути, культом предков, то есть останавливаются на сравнительно раннем этапе реконструкции прошлого. Если верно, что у нынешних первобытных народов признание некоего высшего существа является чуть ли не единственным содержанием их религии, то это можно трактовать только как задержку религиозного развития и связывать с неисчислимыми случаями рудиментарных неврозов, которые мы фиксируем в другой области – в сфере индивидуальной психологии. Почему в данном случае, как и в случае с иудаизмом, развитие остановилось, мы в обоих случаях не понимаем. Следует поразмыслить, не ответственны ли за это субъективная одаренность этих народов, направление их деятельности и их общественное состояние в целом. Впрочем, здравое правило психотерапевтической работы заключается в том, чтобы довольствоваться объяснением существующего и не пытаться объяснить то, что еще не произошло.
Вторая трудность при упомянутом переходе к психологии масс заметно сложнее, потому что выдвигает принципиально новую проблему. Она поднимает вопрос: в какой форме действующая традиция существовала в жизни народов? – вопрос, относящийся не к индивиду, поскольку в случае с ним она реализуется с помощью следов воспоминаний о прошлом в бессознательном. Вернемся назад к нашему примеру из истории. Мы объяснили компромисс в Кадеше наличием у людей, вернувшихся из Египта, мощной традиции. Этот случай не таит в себе никакой проблемы. Согласно нашей гипотезе, эта традиция опиралась на осознанное воспоминание об устных сообщениях, полученных жившими тогда – только два или три поколения назад – людьми от своих предков, а те были участниками или очевидцами соответствующих событий. Однако можем ли мы и в отношении более поздних событий считать, что традиция всегда имела своим основанием сообщенное обычным способом знание, передававшееся от деда к внуку? Но нам уже не удается, как в предшествующем случае, установить, кем были люди, сохранявшие и устно распространявшие подобное знание. Согласно Зеллину, предание об убийстве постоянно имело хождение в жреческих кругах, пока в конечном счете не было письменно зафиксировано, что только и позволило ученому его отыскать. Но оно могло быть известно только немногим людям и не стало народным достоянием. А достаточно ли этого для объяснения его влияния? Можно ли такому знанию немногих людей приписать способность довольно продолжительное время владеть массами, когда оно становилось известным им? Скорее, дело заключается в том, что и в несведущей массе присутствовало что-то родственное знанию немногих и поддерживающее таковое, когда оно было выражено публично.
Характеризовать традицию становится еще труднее,