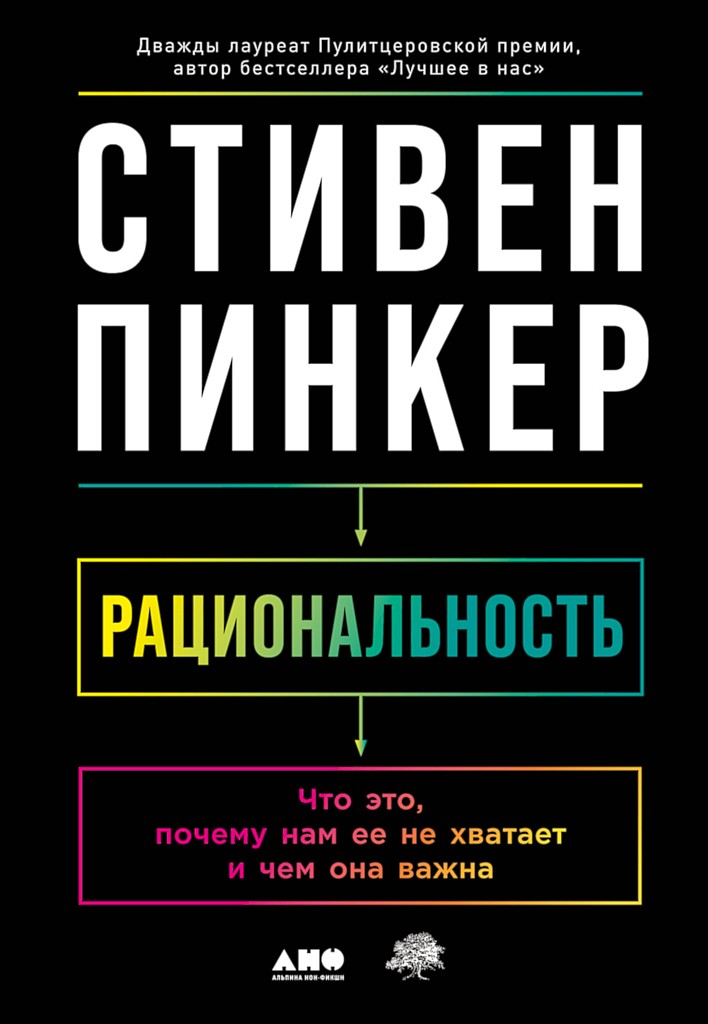ценностями, которыми окружающие, по их же заявлениям, дорожат. Памфлет или манифест разлетается по миру, его переводят на другие языки, обсуждают в пабах, салонах и кофейнях, к нему прислушиваются правители и законодатели, он формирует общественное мнение. Со временем идея проникает в обывательские представления и становится частью правил приличия, теряя видимую связь с рассуждением, которому она всем этим обязана. Вряд ли кто-то в наши дни чувствует необходимость или в принципе дает себе труд приводить доводы, объясняющие, почему недопустимо рабство, или публичное выпускание кишок, или телесные наказания детей, — сейчас это самоочевидно. Но столетия назад обсуждались именно эти вопросы.
И изучив сегодня доводы, которые в итоге одержали верх, мы увидим, что они по-прежнему убедительны. Они взывают к разуму, неподвластному течению времени, поскольку удовлетворяют требованиям концептуальной согласованности, которые есть часть реальности как таковой. Разумеется, как мы узнали из главы 2, моральное суждение невозможно обосновать логически. Зато с помощью логики можно доказать, что рассматриваемое суждение несовместимо с каким-то другим, которое человек чтит, — или с ценностями наподобие жизни и счастья, на которые притязает почти каждый и которые почти каждый же готов признать законным желанием всех людей. Как мы видели в главе 3, несогласованность фатальна для рассуждения: с помощью набора утверждений, содержащего противоречие, можно доказать все что угодно; он абсолютно бесполезен.
Безусловно, мне следует с осторожностью постулировать причинность на основе корреляции, как и выделять из исторической мешанины факторов одну-единственную причину; поэтому я не стану утверждать, что хорошо обоснованное рассуждение и есть причина морального прогресса. Мы не можем провести рандомизированное контролируемое историческое испытание: разделить группу обществ пополам и одну ее часть подвергнуть воздействию убедительных трактатов о нравственности, а второй дать плацебо, нашпигованное заумной галиматьей. Мы не располагаем и достаточно большим набором данных о моральных триумфах, который позволил бы нам выделить в сети корреляций причинную связь. (Лучшее, что приходит на ум, — это кросс-национальные исследования, которые показывают, что при фиксированных мешающих параметрах социально-экономического развития показатели образования и доступа к информации — два критерия готовности к обмену идеями — в более раннюю эпоху предсказывают демократию и либеральные ценности в более позднюю.) [480] Так что я могу лишь привести примеры опередивших свое время рассуждений, которые, как заверяют нас историки, в свое время сформировали общественное мнение — и не потеряли убедительности и сегодня.
* * *
Начнем с преследования за религиозные убеждения. Действительно ли людям нужны были рациональные аргументы, чтобы понять, почему сжигать еретиков на костре как-то нехорошо? Как ни странно, да. В 1553 г. французский богослов Себастьян Кастеллио (1515–1563) сформулировал довод против религиозной нетерпимости, заметив, что догмы Жана Кальвина не подкреплены рассуждениями, и описав «логические следствия» его подхода:
Кальвин говорит, что он уверен в истине, и [другие секты] говорят то же самое; Кальвин говорит, что они не правы, и хочет судить их, но того же хотят и они. Так кто же должен быть судьей? Кто сделал Кальвина судьей над всеми сектами, чтобы он один мог убивать? У него есть Слово Божье, и у них тоже. Если дело его бесспорно, то для кого? Для Кальвина? Но тогда зачем он написал столько книг, провозглашая очевидную истину? <…> Ввиду этой неопределенности мы должны воспринимать еретиков просто как людей, с которыми мы не согласны. И если мы собираемся убивать еретиков, логическим следствием была бы война на уничтожение, потому что в своей правоте уверен каждый. Кальвину пришлось бы вторгнуться во Францию и во все другие государства, разрушить их города, предать мечу всех жителей, невзирая на возраст и пол, убить даже младенцев и скот [481].
XVI в. подарил нам еще одно опередившее свое время рассуждение против другого варварского обычая. Сегодня кажется очевидным, что война вредна детям и другим живым существам. Но на протяжении большей части истории войну считали благородным, святым, увлекательным, мужественным и славным занятием [482]. Превозносить войну перестанут только после катаклизмов XX в., но еще в 1517 г. семена пацифизма сеял один из «отцов современности» философ Эразм Роттердамский (1466–1536) в эссе «Возражение разума, религии и гуманности против войны». С чувством описав блага мира и ужасы войны, Эразм приступает к анализу войны с точки зрения рационального выбора, демонстрируя ее нулевую сумму выигрышей и отрицательную ожидаемую полезность:
К этим соображениям добавлю, что выгоды, получаемые от мира, распространяются далеко и широко и достигают огромных чисел; в войне, если что-нибудь обернется ко благу… выгоды достанутся только немногим, причем недостойным их. Безопасность одного оборачивается уничтожением другого; награда одного отнята у другого. Причина ликования одной стороны — для другой причина горя. Все, что есть плачевного в войне, — в высшей степени таково; а все, что, напротив, зовется удачей, — жестокая и варварская удача, презренное счастье, извлеченное из злоключений другого. А в итоге обычно выходит так, что у обеих сторон, и у победившей, и у побежденной, есть поводы для скорби. Я не знаю ни одной войны, сложившейся так во всех отношениях удачно, что завоеватель, если у него было сердце, чтобы чувствовать, или разумение, чтобы судить, как ему бы следовало, не раскаялся бы, что вообще в ней участвовал…
Если бы мы захотели честно подвести итог и точно вычислить стоимость войны и стоимость мира, нам пришлось бы признать, что мир можно приобрести за десятую долю тех усилий, трудов, бед, опасностей, издержек и крови, которые нужны, чтобы вести войну…
Цель войны — нанести противнику максимальный урон. Самая бесчеловечная цель… Но задумайтесь, можете ли вы навредить ему, не навредив в то же время и теми же средствами своим же людям. Только сумасшедший станет навлекать на себя столько неизбежных бед, когда совершенно неясно, как упадут в конце концов игральные кости войны [483].
Просвещение XVIII в. снабдило нас доводами и против других форм жестокости и угнетения. Как и в случае с религиозными гонениями, мы практически теряем дар речи, когда нас просят объяснить, почему в качестве уголовного наказания нельзя применять садистские пытки: потрошить и четвертовать, колесовать, сжигать на костре или распиливать людей пополам, начиная с паха. Но в памфлете 1764 г. экономист и философ-утилитарист Чезаре Беккариа (1738–1794) изложил аргументы против такого варварства, сформулировав издержки и выгоды уголовного наказания. Оправданная цель наказания, подчеркивает Беккариа, побудить людей не эксплуатировать окружающих, а ожидаемая полезность противоправных действий должна быть критерием, соответственно которому мы избираем карательные меры.
Чем более жестокими становятся наказания, тем более ожесточаются души людей, всегда подобно жидкостям,