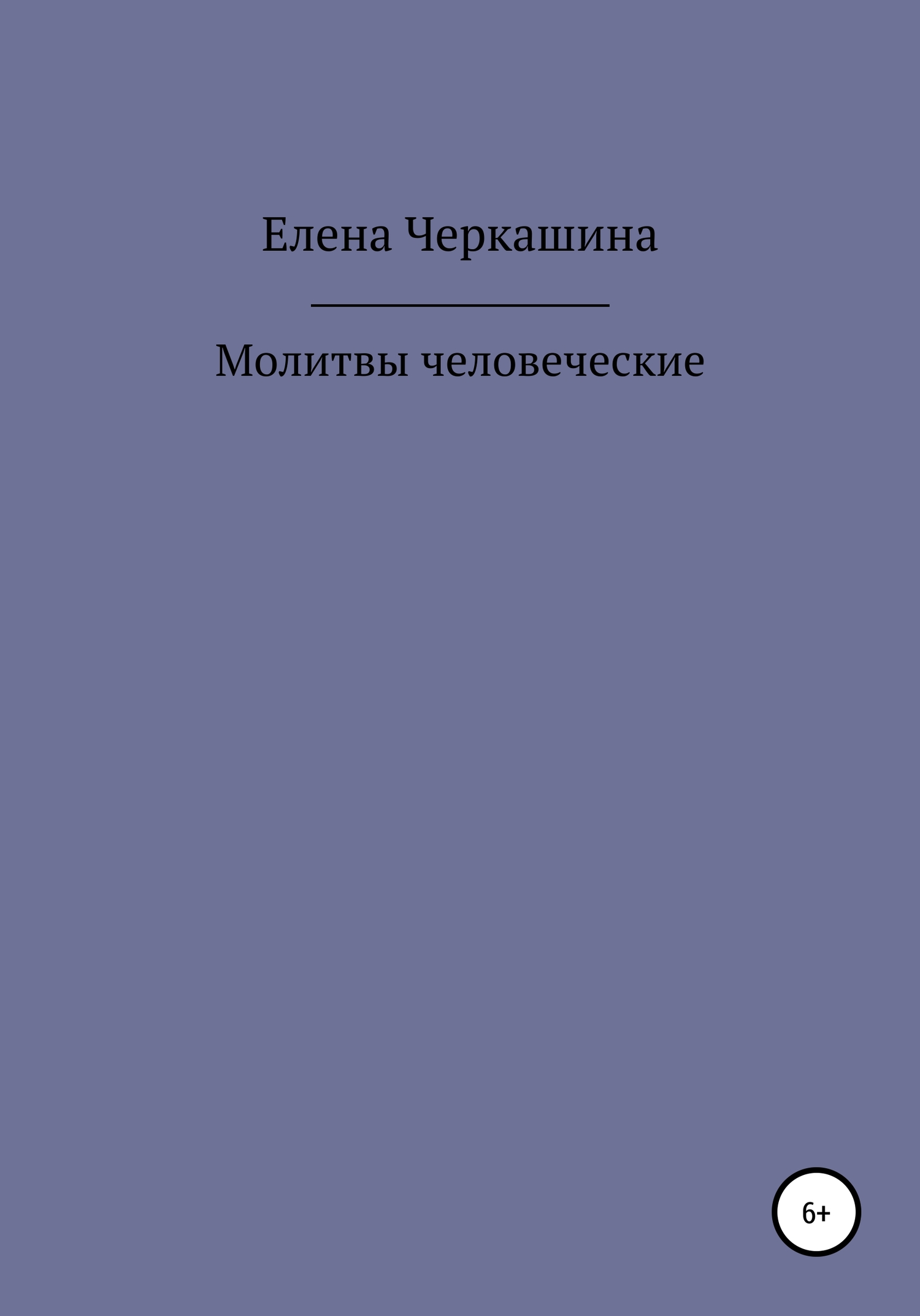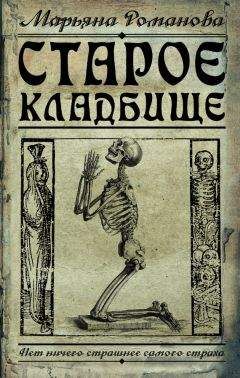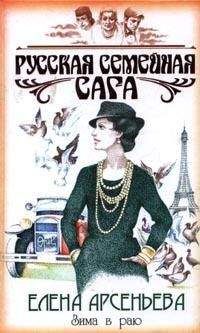нотку участия, казначей затрепетал:
– Батюшка, в амбаре разве что на неделю-другую, а там и сами по миру пойдём. Вели ворота прикрыть и пускать только болящих.
– Болящих? А остальные пусть голодные стоят?
Игумен не на шутку сердился. Зная, что за воротами монастыря с раннего утра собираются толпы паломников, большинство из которых – крестьяне соседних деревень, он сердцем болел за каждого. Начавшийся голод гнал бедняков в монастырь, где мощная братия всё лето трудилась на обширных полях. Угодья монастыря считались самыми богатыми, и неудивительно, что сейчас именно сюда стекались сироты, вдовы и просто бесприютные странники. Они знали: в святом месте и покормят, и до трёх дней жить бесплатно дозволят. Но казначей прав: может статься, что, исчерпав запасы, монахи начнут голодать…
Игумен опустил голову, нахмурился, словно прислушиваясь к чему-то, а затем вдруг резко сказал:
– Ничего. Будет зерно. Пресвятая Владычица не оставит.
– И что? – растерянно спросил казначей.
– Ворот не закрывать!
И, не слушая больше, отец Иннокентий размашистым шагом пошёл по двору.
– Да как же так… – запричитал казначей. – Как же быть-то?
– Пресвятая Богородица не оставит! – издалека отозвался игумен и исчез в широком входном проёме Успенского Собора.
Казначей остался один. Он чуть не плакал от досады и бессилия. Зерно кончалось, ему самому пришлось в этом убедиться сегодня утром, когда отправлял монахов на мельницу. Больше десяти дней не продержаться, придётся покупать, а покупное зерно больно дорого обойдётся, да и смогут ли найти, если вокруг все деревни голодают? Он вжал голову в плечи и, мелко ступая, засеменил к себе в келью. Здесь долго сидел, размышлял, прикидывал так и этак, пока голова не разболелась от тревог и раздумий, а затем опять вышел во двор.
Паломники выходили из храма и тянулись в трапезную. Казначей недружелюбно глянул им вслед, явно сердясь, и медленно пошёл следом. В просторной трапезной занял своё место и с болью наблюдал, как проносили мимо подносы с крупно нарезанным хлебом, как оделяли гостей и как исчезали в их ртах запасы братии. «Сами пусть зерно покупают, – ожесточённо размышлял, – у нас на всех не хватит». Но совесть подсказывала: игумен прав. Закрыв ворота монастыря, они нарушат самый важный закон: человеколюбия. А без любви, как сказал апостол Павел, все мы – медь звенящая или кимвал звучащий.
…Прошло десять дней. Амбар опустел. Последние мешки с мукой уехали в пекарню. Боясь показаться игумену на глаза, казначей сидел в своей келье, когда вдруг в дверь постучали:
– Отец Михаил, на молебен.
– Куда это? – удивился старик.
– В Успенский Собор, зерно выпрашивать.
– Что, говоришь?
– Зерно. Да ты поторопись, а то игумен рассердится.
Поднялся отец Михаил, подрясник поправил, пояс туже затянул. Кривая улыбка застыла на лице. Не верил он в пополнение запасов! Может, где-то когда-то и случалось такое, но только в прежние времена, на другой земле, а им надо самим справляться. Но на молитву пошёл, и стоял вместе с братией, и вслушивался в пение. Молебен о преумножении хлеба состоял из пяти частей. Первая – славословие, хвалебная речь Господу Богу за все поданные Им милости и дары. Вторая – напоминание о том, что именно Господь велел людям в простоте сердца просить у Него благ, в том числе и хлеба насущного. Третья часть содержала чтение отрывков-эпизодов из Евангелия, когда Господь наш Иисус щедрой рукой насыщал страждущих и жаждущих, и лишь четвёртая и пятая части были, по сути, прошением. Казначей ждал чего-то особенного, каких-то небывалых слов, могущих смягчить Всемилостивого Бога, но не дождался. Молитва текла просто, буднично, и по окончании её монахи разошлись так же, как и всегда: вполголоса переговариваясь, решая обычные дела.
Он спал очень крепко, умаявшись за день, и не услышал звука колокола. А когда проснулся и понял, что опоздал, то быстро вскочил, пригладил бороду, надел скуфейку и помчался в храм. Про вчерашний молебен он как-то забыл, а вспомнил лишь тогда, когда сам настоятель вышел к амвону и кратко сказал:
– Братья, помолимся.
И первый опустился на колени. Вся братия дружно последовала его примеру. Монахи молились, опять прося милости у Всемогущего Бога, церковь наполнялась дыханием, звуками голосов, и постепенно жёсткий камень неверия, давивший отца Михаила изнутри, начал таять. «Кто знает, – думал он, опустив лицо к полу, – для Бога нет невозможного. Из малого зерна он делает целую горсть, из семечка вырастает дерево, так, может, и сейчас сотворит Господь чудо…» Отец Михаил представлял полный амбар, и сердце замирало. «Ах, как было бы хорошо…» Но тут же мысли сомнения роем влетали в голову, будоражили, мешали: «Нет чуда такого, да и не было никогда! А то, что в книжках пишут, – то не про нас, про другие времена».
К концу молебна казначей чуть не плакал. Он понимал, что своим неверием предаёт всю братию, отвергает Великого и поистине Всемогущего Бога, Его щедрую руку, Его участие в жизни монастыря. О любви Пресвятой Богородицы он как-то не думал, словно начисто позабыл о Её пречистом покрове. Вышел из храма разбитый, униженный, без капли надежды внутри. Вышел – и направился в трапезную, где сегодня, как он считал, подадут последние куски хлеба. Но вдруг услыхал:
– Братья, отцы! Амбар полный!
Казначей поднял голову: не ослышался ли? Но среди монахов уже пронеслось:
– Амбар полон хлеба! Да так полон, что дверь не закрывается.
Многие монахи сорвались, чтобы посмотреть, и отец Михаил, торопясь и всё ещё сомневаясь, тоже ринулся с ними. Дверь амбара стояла распахнутой, а внутри, широкой волной раскинувшись вправо и влево, текло крупное, свежее, остро пахнущее зерно.
– Ах ты, Боженька, – так и сел казначей. – Да как же это?
Он трогал его руками, мял, словно желая убедиться: настоящее, неподдельное зерно, да какое хорошее! Словно небесные врата распахнулись и послали в голодающий монастырь свой щедрый дар. «Сколько хлеба будет! Просфор напечём. Да мало ли что можно сделать, когда так много зерна? А главное – ворот, ворот не закрывать, потому что не скудеет рука дающего». Отец Михаил был готов окунуться в это зерно, искупаться в нём, но только сидел и сидел, и украдкой смотрел, как удивлялись другие монахи, будто и не просили сами же о милости, и как блестели слёзы в глазах у всех.
Благодарственный молебен читали всем монастырём, братия стояла торжественно, выпрямив спины и с умилением внимая чтецу. Казначей прислонился к стене: от волнения ноги едва держали. Он украдкой опускал руку в карман, где лежала горсть нового зерна, пропускал её сквозь пальцы, наслаждался бархатистостью и грелся, грелся