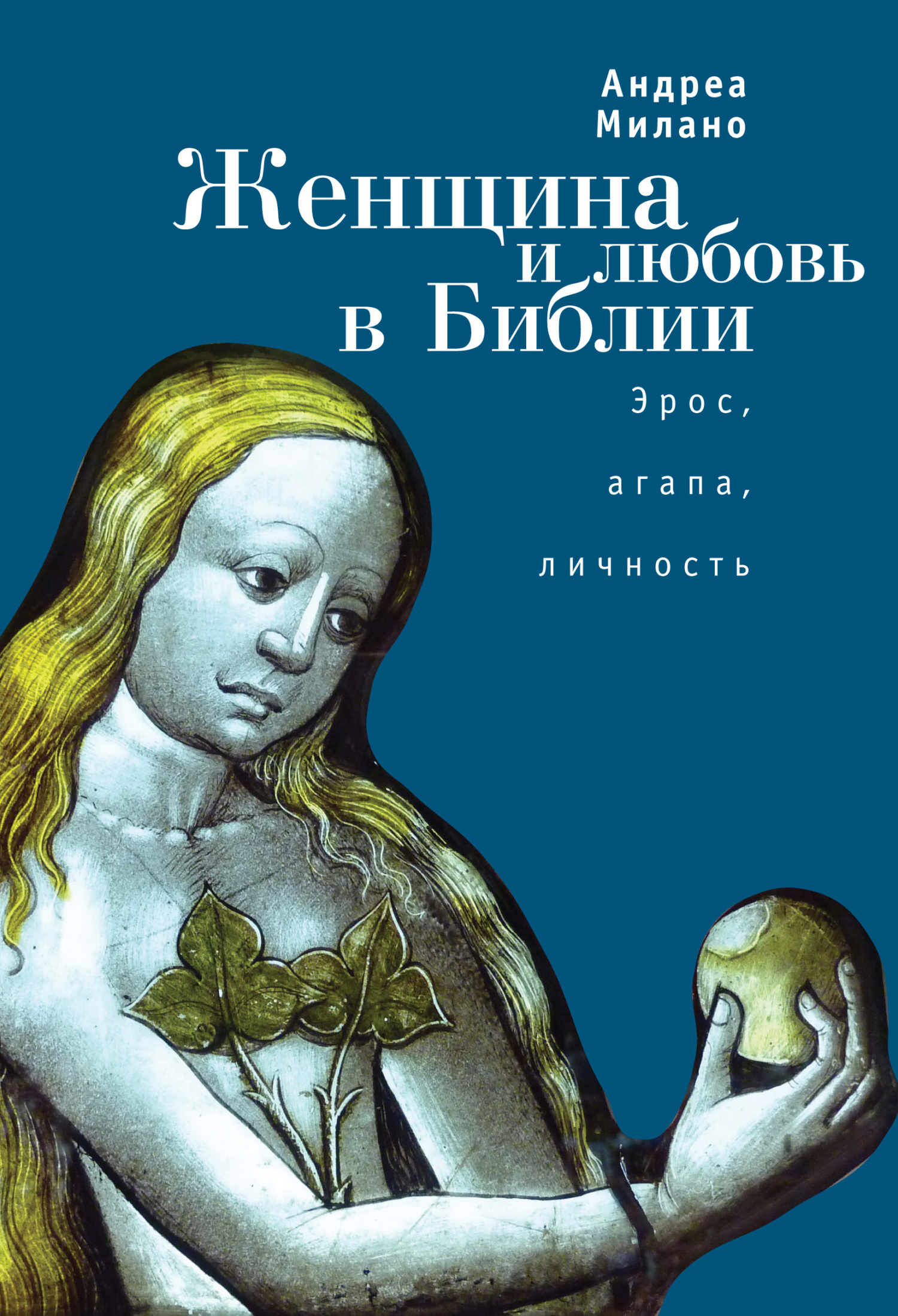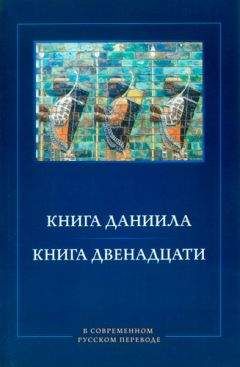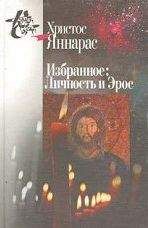над предложенным нами обзором фрагментов Книги Бытия, а затем над монолитной, но трогательной символикой эроса в книгах пророков, то не вызовет удивления и Песнь песней. Через эту маленькую поразительную поэму, полную восхищения эросом в чистом виде, тоже можно проникнуть в библейский канон как в «слово Божие» несмотря на ее очевидную, если не сказать непристойную, контрастность [118]. Не только Бытие, но и пространные впечатляющие откровения об эросе в пророческих текстах подводят к восприятию этой книги: уже при чтении первых ее стихов требуется приложить усилия к тому, чтобы не посчитать странной и противозаконной аномалией включение этой книги в число священных иудейских, а затем и христианских текстов.
Очень часто – пожалуй, даже слишком часто – вспоминают изречение рабби Акибы (ум. ок. 135 г. после Р. Х.): «Множество веков ('ōlām) не стоят того дня, когда Израилю была дарована эта книга. Все книги Библии святы, но Песнь святее всех (qōdeš qodašīm)» (Мишна, Иудайим, 3, 5) [119].
Современные экзегеты почти единодушно согласны с интерпретацией Песни, именуемой «натуралистической», хотя лучше было бы назвать ее «эротической», в отличие от интерпретации, практиковавшейся от античности до Нового времени; когда преобладало «аллегорическое» толкование и отвергались все прочие. Большинство исследователей согласилось с «эротическим» прочтением Песни песней благодаря использованию общепринятого ныне историко-критического метода (в настоящей работе мы довольно часто прибегаем к этому методу, в том числе и в более широком герменевтическом плане).
Как известно, историко-критический метод исследования текста предполагает выяснение целого комплекса вопросов, касающихся его автора, времени создания, особенностей композиции, культурной среды, где возникло произведение, адресата, к которому обращается автор, источников и истории редакций. Короче говоря, этот метод изучает всё, касающееся текста – от его происхождения вплоть до того состояния, в каком он попал к нам в руки. Он ставит целью поиск того, что раскрывает подлинный смысл, вложенный в текст автором (или авторами) и окончательным редактором. Этот смысл исследователь пытается выявить, обращаясь к первоначальным намерениям автора. С другой стороны, история рецепций или, если угодно, история судьбы текста не менее важна для его интерпретации. Следует также помнить, что и при современном прочтении Песни предпринимаются попытки неоаллегорической трактовки, хотя в них таки сохраняется стремление отыскать и объяснить ее подлинный первоначальный смысл, соответствующий замыслу автора.
Естественно, при анализе этой книги мы ограничимся тематическими рамками нашей работы – синтетическим рассмотрением проблемы женщины и любви. Начнем с освещения элементарного, буквального смысла текста – эроса в том виде, в каком он вырывается с изумительных, искрящихся страниц этой маленькой, но уникальной библейской книги.
Безграничное бурное изумление, охватившее мужчину при открытии женского другого-вне-его и женщину при встрече с мужским другим-вне-ее, засвидетельствованное в Книге Бытия (по крайней мере, в Быт 1:27 и 2:23–24), о котором по-своему напомнили пророки, вероятно, и вдохновило создателя этого гимна любви и вместе с тем гимна жизни и радости, поражающего своей абсолютной подлинностью, красотой, универсализмом. Наравне с другими текстами религии Израиля – если только не в большей степени – эта маленькая книжка принадлежит к «истории спасения». Ко всеобщему удивлению она открывает пленительный оазис, заставляя его цвести посреди дикой суровой пустыни – именно в пустыню превратился наш мир, который когда-то был, порой еще может стать на несколько мгновений, а в будущем, в конце, в «эсхатоне» станет навсегда садом наслаждений – «раем». Почему бы тогда не нейтрализовать или, по меньшей мере, не уравновесить cahier de doléances [120], уготовленные некоторыми феминистками против Библии или против ее «изъянов», посредством этого необычайного воплощения «высшего начала», воплощения человечного, поэтического и религиозного, каковым является Песнь песней?
Запечатленное в глубинах бытия сотворенных существ, обетование счастья предназначило женщину для мужчины и мужчину для женщины: это звучит у главных персонажах Песни песней – юноши и девушки, охваченных любовью. Ради любви они ищут друг друга и предаются ей, словно призывая в свидетели сочувствующие им и переживающие за них землю и небо. В Песни переплетаются краски, звуки, запахи, вкус блюд и напитков, прикосновения, а с ними цветы, растения, животные, полуденный свет и темно-синие ночи, расшитые звездами Востока. Слышится и «закадровый» голос, порой это голос «поэта». Звучит и хор, вступающий как будто издалека и помогающий влюбленным. Они же, охваченные любовным трепетом, желают соединиться, живя словно внутри «магического шара», внутри собственной истории, невинные и не ведающие о жестокостях и ужасах окружающего мира, очарованные всесильным эросом, который как будто вовсе не нуждается в искуплении.
Эти персонажи, «он» и «она», называемые по-разному, но не имеющие собственных имен, оба они и каждый/каждая – отражение истории, которая в них оживляет и обновляет чудо любви: «Скажите моему возлюбленному, что я изнемогаю от любви» (5:8), – говорит она и повторяет эти слова, как припев. Ей, как эхо, отвечает он: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» (2:10, 13).
Язык Песни в высшей степени индивидуализирован и даже персонализирован, что отражается в непрерывной смене «я» и «ты», «мой/моя» и «твой/твоя»: «Возлюбленный мой (dôdî) принадлежит мне, а я ему» (2:16).
Игра ожидания и встречи усиливается, влюбленные ищут друг друга, желая соединиться, ускользают друг от друга и друг друга находят – кажется, что во всем этом раскрываются и углубляются тайны, называемые «она» и «он», предельно близкие и всё же непостижимые для себя самих и для нас. Душевное потрясение, нежность, радость, трепет, страсть – вся гамма эротических эмоций и действий появляется и преображается в наплыве тем и образов и достигает кульминации, исполненной неотразимого обаяния: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она – пламень весьма сильный! Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее» (8:6–7).
Эти раскаленные добела стихи были названы «мудрым венцом того, что в целом составляет песнь, а не повествование» [121]. Из них мы выделяем выражение «крепок, как смерть, эрос» ('azzāh kammāwet 'ahabâ), дабы обратить внимание на следующий момент: в отличие от широко известных переводов Библии, древнееврейское 'ahabâ мы передаем словом эрос, тогда как в греческой Септуагинте оно всегда передается словом агапа (αγάπη). Тем самым мы смогли, надеемся, лучше и яснее передать смысл первоначального свидетельства Песни и ее до крайности напряженного, головокружительного, вечного послания – «поэтического, символического и духовного послания этой литературной драгоценности Библии» [122]. В нем провозглашается неумолимая равнозначность сил, сотворивших жизнь, и сил, ее разрушающих, т. е. сил, приведших к появлению этого мира, и сил, готовых прекратить его существование.
В наши дни признаются и подчеркиваются земной, мирской,