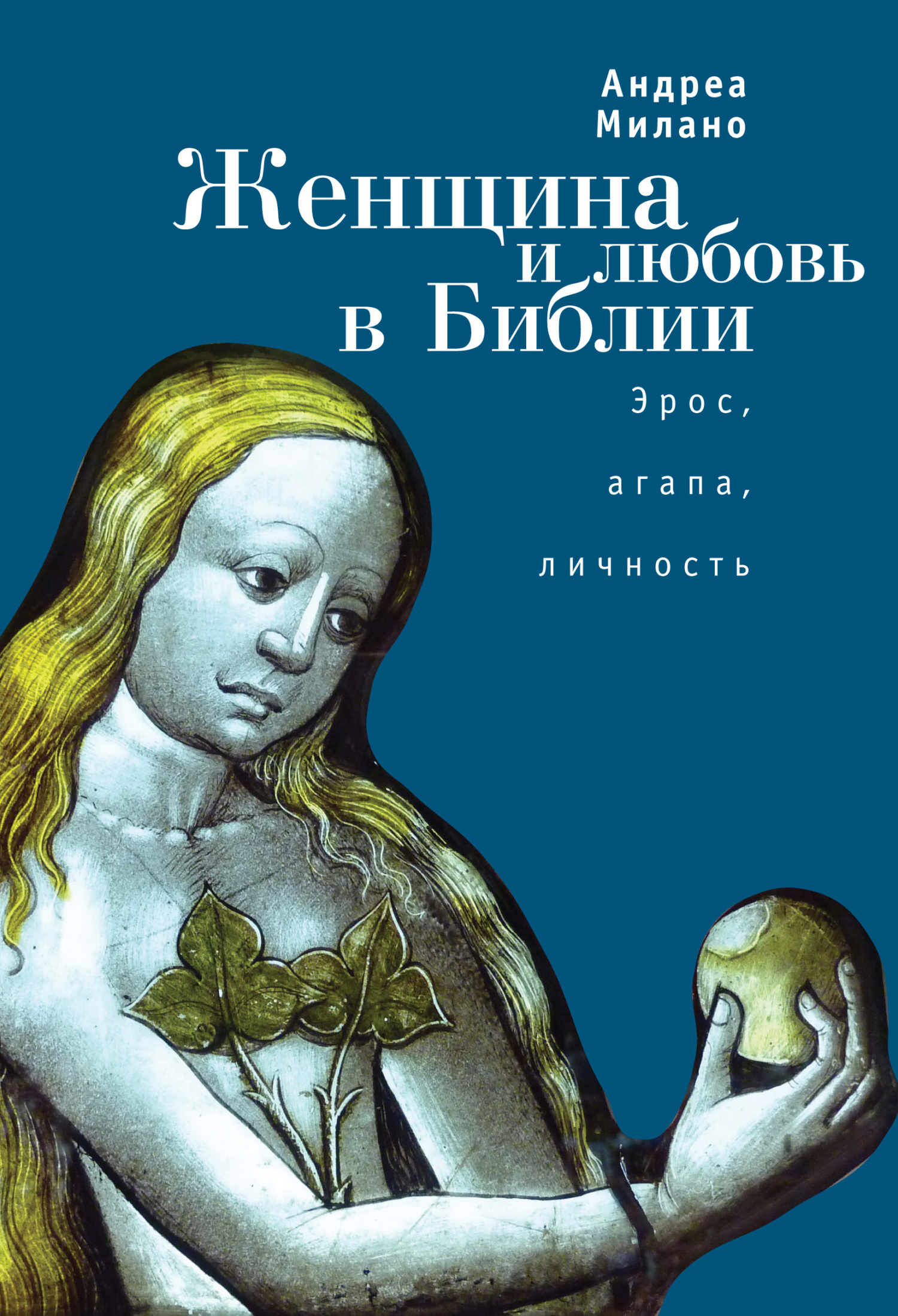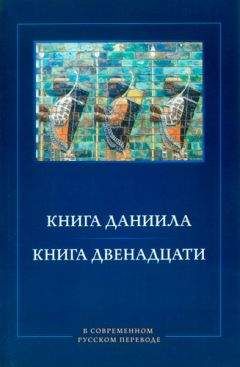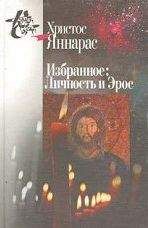(см. разделы 11.7–8), позволяя себе это с отвагой, за которую ему будут благодарны потомки, но мы сегодня оцениваем этот ход невысоко, принимая его с сожалением, если не отвергая вообще. Поддержку своего тезиса Ориген усиленно стремится найти еще в одном соображении. Не привлекая библейских цитат, он добавляет: «Помню сверх того, как один святой по имени Игнатий сказал о Христе: “Мой эрос распят” (ὀ ἐμός ἔρως ἐσταύροται) – и я не считаю, что за это он достоин осуждения».
В 1918 г. Адольф фон Гарнак заявил, что здесь Александриец впал в заблуждение. Игнатий Антиохийский (о нем Ориген упоминает в одном из писем, написанных между 110 и 130 гг.), когда его везли в Рим, где он принял мученическую смерть, в своем письме римлянам не утверждал, что Христос – это его эрос и что якобы был распят его эрос-Христос. При анализе всего высказывания в его непосредственном контексте можно установить, что слово эрос означает там страсть, плотскую похоть, которая для Игнатия, стоящего на пороге мученичества, теперь распята в нем самом. Полная подлинная фраза из письма Игнатия римлянам выглядит так: «Пишу вам живой, желая (ἐρῶν) умереть. Мое желание (ἔρως) – распятие, и не пылает во мне больше пожар любви к материальному миру (ὁ εμὸς ἔρως εσταύροται, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλοϋλον)».
Едва ли по поводу Игнатия Адольф фон Гарнак ошибся. Подводя итог рассмотренному выше, констатируем, что Ориген удовлетворился малым числом аргументов, найденных в Библии Семидесяти толковников, которую он, кстати, мудро подверг христологической герменевтике. Но к ней он приложил не библейский и по меньшей мере двусмысленный текст Игнатия Антиохийского, и мы вновь настойчиво задаем вопрос с целью добраться до сути ответа: достаточно ли всего этого, чтобы объяснить новаторское решение Оригена семантически уравнять лексику ἀγάπη/ ἀγαπᾶν с лексикой ἔρως/ἐρᾶν?
Прошло три или четыре столетия после появления греческого перевода еврейской Библии и примерно полтора столетия после последней редакции текстов, включенных в канон Нового Завета. Может быть, устойчивость мощных ограничений и запретов, наложенных авторами входящих в них произведений в отношении эротической лексики, запретов, с которыми были согласны как иудеи, так и христиане вплоть до времени Оригена объясняется какими-то другими причинами, им указанными, но в явном виде не описанными?
Оригеном постоянно владела неудержимая воля к ортодоксии. Он постоянно противостоял языческим философским системам, всегда боролся с гордыней учителей-гностиков, посвятил себя неутомимому изучению и преподаванию Писания и подчеркивал при этом совместимость и преемственность наставления Ветхого и Нового Завета, твердо придерживаясь правил ecclesiastica praedicatio [314]. Он сознавал, что если ошибается в проблемах любви, то ошибается во всем вероучении и в жизни. Значительный поворот в подходе к словарю любви он произвел без тревог и сомнений, но со слабой и, вообще говоря, зыбкой аргументацией. Есть ли достаточная вероятность в том, что он сделал это с чистой совестью и вдохновлялся какими-то другими мотивами, помимо им изложенных?
Пытаясь понять установленную Оригеном связь между Христом, мудростью и красотой, полезно обратиться к Платону. На этом пути уместно также вспомнить, что в платонизме, а затем в медиа– и неоплатонизме было выработано и достигло расцвета облагороженное понимание эроса. Нам хотелось подчеркнуть, что речь идет о великом наследии, которое с умозрительной мощью и удивительной систематичностью было прославлено Плотином. Если даже не принимать во внимание, что Ориген желал подчиниться строжайшей христианской ортодоксии своего времени и своей Александрии, но что при этом он сознательно, хотя и неосмотрительно подчинился платонизму, то по крайне мере можно сделать такое предположение: он сознавал положительное значение усвоенного из платоновской традиции понимания эроса как «восходящей» и «нисходящей» динамики, не только «жаждущей», но и «изливающейся». Ориген, естественно, не смог сделать из эроса полный эквивалент агапы, но смог, как мы убедились, установить семантическое равенство и терминологическую взаимозаменяемость ἀγάπη/ἀγαπᾶν и ἔρως/ἐρᾶν при небольшом изменении их значений.
Для Оригена христианский Бог – это Личность, тогда как для платоников бог, тот самый «первобог» не имел ничего общего с тем, что можно было бы определить как личность. Вспомним, что Единое у Плотина находится вне субъектности и, следовательно, вне всего личного, даже если оно «действует так, что это предполагает наличие в нем аналога активного отношения между божественным и остальной вселенной» [315].
Ориген, по-видимому, помнил о платоновском Демимиурге, когда утверждал, что вовсе не ошибочно называть христианского Бога эросом. Это утверждение поддержал Рист, в своей критике Нюгрена, полагавшего, что эрос у Оригена всегда и только «восходит» [316]. Несомненно, Ориген как христианин веровал в любовь или, точнее, в личного Бога-агапу. В то же время его вдохновляли в этой связи произведения Филона, обычно рассуждавшего о Логосе в терминах платоновского Пира. Ориген, безусловно, знал и использовал труды Филона и мог найти в них фрагменты, навеянные Пиром. Но в Гомилиях и в Комментариях к Песни песней, повествуя о «супруге» как символе Логоса, он мог следовать христианскому преданию, не обращаясь к Филону.
Христианский Бог не только субъект, являющийся личностью и в этом качестве испытывающий личную агапическую любовь, но и трансцендентность. В платоновской традиции божественное пребывает «вне бытия» (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας). Это выражение применительно к христианскому Богу использовал еще Климент. Ориген последовал ему, но нельзя исключить, что он заимствовал эту формулу у философского синкретизма своего времени. В одном полемическом фрагменте своего труда, направленного против платоника Цельса, Ориген лишь намекает на нее, здесь же, как и в других местах, он непосредственно ее приводит. Однако обычно, когда он прибегает к Иоаннову именованию Бога любовью (агапой), оно, как представляется, не противоречит платоновскому богу «вне бытия». Платон утверждал, что «творца и родителя этой Вселенной нелегко отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать» (Тимей, 28с).
Эта максима, утверждающая непостижимость божественной сущности, передавалась от одного философа к другому и широко распространилась в медиаплатонизме, из которого спустя некоторое время ее охотно заимствовали христиане. Известно также, что христианские авторы от Иустина до Климента Александрийского и даже вплоть до Кирилла и Феодорита постоянно цитировали одни и те же платоновские тексты, извлеченные из кратких изложений философов-медиаплатоников. Ориген не был исключением из этой традиции: в числе бесчисленных атрибутов Бога он называл как его непостижимость, так и благость, а следовательно, агапическую любовь или, точнее, говорил, что она и есть Бог. Будучи представителем апофатического богословия, он однако не отвергал указанных философами божественных атрибутов, которые обнаруживал в тексте Библии. Среди этих философов первое место занимали платоники.
Можно предположить, что Ориген, извлек платоновскую формулу о божественном как находящемся «вне бытия» (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας) из синкретической