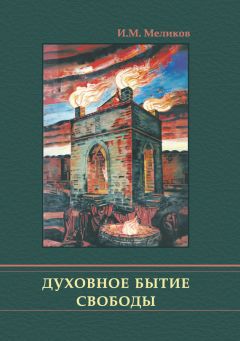плоть пульсировала и раскрывалась, отдаваясь всеобщему цветению.
Когда в его любимом кафе звучит запись женщины (вероятно, Софи Такер), исполняющей меланхоличный блюзовый номер под названием Some of These Days, у него случались моменты передышки. Песня начинается с нежного фортепианного вступления, которое переходит в теплый голос певицы; и в течение следующих нескольких минут в мире Рокантена все было в порядке. Каждая нота ведет к следующей, каждая на своем месте. В песне есть смысл, поэтому она наделяет смыслом и существование Рокентена. Все выверено и плавно: когда он подносит бокал к губам, тот движется по легкой дуге, и он может не расплескав поставить его на место. Его движения плавны, как у спортсмена или музыканта, — пока не закончится песня и все снова не разлетится на куски.
Роман заканчивается тем, что Рокантен находит выход через это видение искусства как источника необходимости. Он решает уехать в Париж, чтобы написать не биографию, а книгу другого рода, которая будет «красивой и твердой, как сталь, и заставит людей стыдиться своего существования». Позднее Сартр посчитал, что это решение было слишком простым: способно ли искусство действительно спасти нас от хаоса жизни? Но именно оно дало Рокантену возможность сдвинуться с мертвой точки в том, что иначе могло бы стать бесконечным, неразрешенным романом, «цветущим, цветущим» во всех направлениях. Как мы увидим позже, любое средство, позволившее Сартру закончить книгу, заслуживает аплодисментов.
Сартр включил в свое произведение многое из собственной жизни и опыта: приморский городок в несезон, галлюцинации, случайности. Даже одержимость каштановым деревом была личной: в его произведениях много деревьев. В автобиографии он вспоминал, как в детстве его напугала страшилка: прикованная к постели тяжелой болезнью молодая женщина вдруг вскрикивает, показывает из окна на каштановое дерево, а затем падает замертво на подушку. В рассказе самого Сартра «Детство хозяина» [35] главный герой Люсьен приходит в ужас от каштанового дерева, которое не реагирует, когда он его пинает. Позже Сартр рассказывал своему другу Джону Джерасси, что его квартира в Берлине выходила окнами на прекрасное большое дерево — не каштан, но похожее на него в достаточной степени, чтобы деревья Гавра то и дело всплывали у него в памяти.
Деревья много значили для Сартра: бытие, тайна, физический мир, случайность. Они также были удобной точкой для феноменологического описания. В автобиографии он цитирует слова, сказанные ему однажды бабушкой: «Мало того, что у тебя есть глаза — ты должен научиться ими пользоваться. Знаешь, что Флобер сделал с молодым Мопассаном? Он усадил его перед деревом и дал ему два часа, чтобы описать его». Это верно: Флобер, очевидно, действительно велел Мопассану рассматривать вещи «долго и внимательно», сказав:
Во всем есть неизученная часть, потому что мы привыкли помнить всякий раз, когда мы смотрим, что люди до нас думали о том, что мы рассматриваем. Даже в самой тривиальной вещи есть доля неизведанного. Мы должны ее найти. Чтобы описать пылающий огонь или дерево на равнине, мы должны оставаться перед этим огнем или деревом до тех пор, пока они не перестанут напоминать нам любое другое дерево или любой другой огонь.
Флобер говорил о литературном мастерстве, но он мог бы говорить и о феноменологическом методе, который в точности следует этому процессу. С помощью эпохé сперва отбрасываются второстепенные понятия или общепринятые идеи, а затем описывается вещь — такая, какой она непосредственно предстает перед нами. Для Гуссерля эта способность описывать феномен без влияния чужих теорий означает освобождение философа.
Связь между описанием и освобождением восхищала Сартра. Писатель — это человек, который описывает, и, следовательно, человек свободный — ведь человек, который может точно описать то, что он переживает, обладает некоторым контролем над этими событиями. Сартр снова и снова исследовал эту связь между писательством и свободой в своих работах. Когда я впервые прочитала «Тошноту», именно в этом была часть ее привлекательности для меня. Я тоже хотела иметь возможность видеть вещи целиком, переживать их, писать о них — и обрести свободу. Именно так я пришла к тому, чтобы стоять в парке, пытаясь увидеть Бытие дерева, и так я пришла к изучению философии.
В «Тошноте» искусство приносит освобождение, потому что оно фиксирует вещи такими, какие они есть, и придает им внутреннюю необходимость. Они больше не тошнотворны: в них есть смысл. Джазовая песня Рокантена — образец для этого процесса. Собственно, в своих воспоминаниях де Бовуар пишет, что Сартру пришла в голову эта идея во время просмотра фильма, а не прослушивания музыки. Они были заядлыми киноманами и особенно любили комедии Чарли Чаплина и Бастера Китона, которые снимали фильмы, наполненные балетной грацией, утонченные, как сама музыка. Мне нравится думать, что философское прозрение Сартра о необходимости и освобождении в творчестве могло прийти к нему благодаря Маленькому Бродяге.
Сартр опирался на собственный опыт и в отношении другой стороны одержимости Рокантена: его ужас перед всем мясистым, липким или склизким. В какой-то момент Рокантен чувствует омерзение даже от слюны внутри собственного рта, от своих губ и тела в целом — «мокрых от существования». В книге «Бытие и ничто», опубликованной в 1943 году, Сартр посвятил немало страниц физическому качеству viscosité, или le visqueux — «вязкость» или «клейкая слизь». Он писал о том, как мед растекается, когда его льют из ложки, и вспоминал (с содроганием) «влажное женственное посасывание», происходящее, когда липкая субстанция прилипает к пальцам. Сартру, я подозреваю, не понравились бы ни фейсхаггер из фильма Ридли Скотта «Чужой», ни студенистая «обнимательная губка» из романа Филипа К. Дика «Лейте мои слезы, сказал полицейский», которая убивает именно так, как предполагает ее название, ни чудище Бейген из «Пера Гюнта» Ибсена, «склизкое, мутное» существо без определенной формы. Еще меньше ему понравилась бы встреча с формой жизни, мелькающей в конце «Машины времени» Г. Уэллса, — барахтающимся на пляже сгустком с извивающимися щупальцами. Ужас Сартра перед такими вещами буквально осязаем. Он так много использовал этот образ, что, если в философском тексте появляется вязкая лужа или брызги чего-либо — можно не сомневаться, что этот текст принадлежит Сартру. (Хотя Габриэль Марсель претендовал на то, что именно он впервые подал Сартру идею написать об этом в философском ключе.) Вязкость — это способ Сартра выразить ужас случайности. Она вызывает в памяти то, что он называл «фактичностью», то есть все, что затягивает нас в ситуацию и мешает свободному полету.
Талант Сартра сочетать личные интуитивные реакции с философскими рассуждениями он воспитывал в себе сознательно. Иногда это