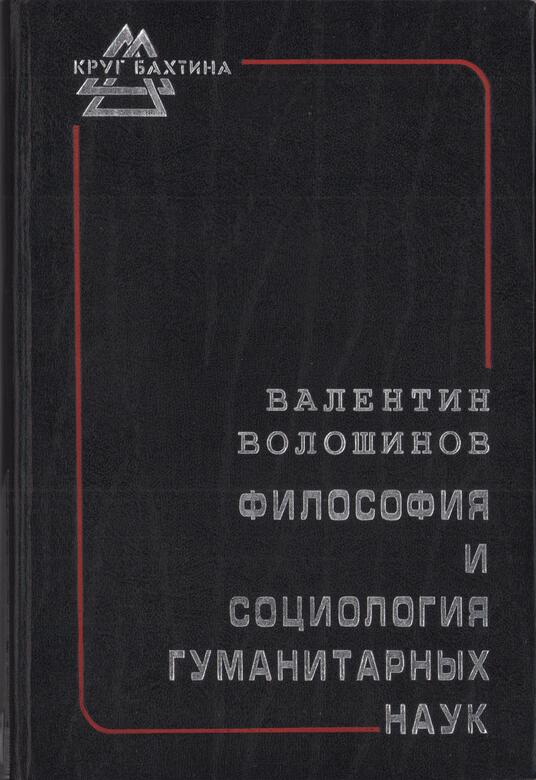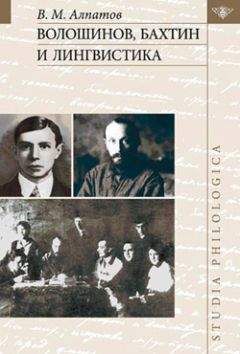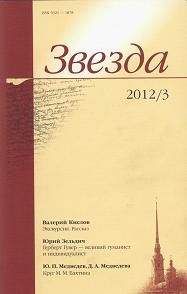их основательному критическому анализу. Только после этого мы сможем ответить на поставленный нами вопрос.
Начнем с критики второго направления – абстрактного объективизма.
Прежде всего мы должны спросить: в какой степени система языковых себетождественных норм, т.е. система языка, как ее понимают представители второго направления, – реальна? Никто из представителей абстрактного объективизма не приписывает, конечно, системе языка материальной, вещной реальности. Она, правда, выражена в материальных вещах – знаках, но как система нормативно-тождественных форм она реальна лишь как социальная форма. Представители второго направления постоянно подчеркивают, – и это является одним из основоположений их, – что система языка является внешним для всякого индивидуального сознания объективным фактом, от этого сознания независящим. Но ведь как система себетождественных неизменных норм она является таковой лишь для индивидуального сознания и с точки зрения этого сознания.
На самом же деле, с действительно объективной точки зрения, пытающейся взглянуть на язык совершенно независимо от того, как он является данному языковому индивиду в данный момент, язык представляется непрерывным потоком становления. Для стоящей над языком объективной точки зрения нет реального момента, в разрезе которого она могла бы построить синхроническую систему языка.
Эта синхроническая система языка, в лучшем случае, существует лишь с точки зрения субъективного сознания говорящего индивида, принадлежащего к данной языковой группе в любой момент исторического времени. С объективной точки зрения она не существует ни в один реальный момент исторического времени. Мы можем допустить, что для Цезаря, пишущего свои творения, латинский язык являлся неизменной, непререкаемой системой себетождественных форм, но для историка латинского языка в тот же самый момент, когда работал Цезарь, шел непрерывный процесс языковых изменений (пусть историк и не сможет их зафиксировать).
Если мы скажем: язык как система непререкаемых и неизменных норм существует объективно, – мы совершим грубую ошибку. Но если мы скажем, что язык в отношении индивидуального сознания является системой непререкаемых и неизменных норм, что таков модус существования языка для каждого члена данного языкового коллектива, то мы выразим этим совершенно объективное отношение. Другой вопрос, правильно ли установлен самый факт, действительно ли для осознания говорящего язык является лишь как неизменная и неподвижная система норм. Этот вопрос мы пока оставляем открытым. Но дело, во всяком случае, идет об установлении некоторого объективного отношения.
Как же смотрят на это сами представители абстрактного объективизма?
Большинство их склонно утверждать непосредственную реальность, непосредственную объективность языка как системы нормативно-тождественных форм. В руках таких представителей второго направления абстрактный объективизм прямо превращается в гипостазирующий абстрактный объективизм. Другие представители того же направления (как Мейе) более критичны и дают себе отчет в абстрактном и условном характере языковой системы. Однако никто из представителей абстрактного объективизма не пришел к ясному и отчетливому пониманию того рода действительности, которая присуща языку как объективной системе.
Но теперь мы должны спросить, действительно ли язык существует для субъективного сознания говорящего как объективная система непререкаемых нормативно-тождественных форм, правильно ли понял абстрактный объективизм точку зрения субъективного сознания говорящего? Или иначе: таков ли действительно модус бытия языка в субъективном речевом сознании?
На этот вопрос мы должны ответить отрицательно. Субъективное сознание говорящего работает с языком вовсе не как с системой нормативно-тождественных форм. Такая система является лишь абстракцией, полученной с громадным трудом, с определенной познавательной практической установкой. Система языка – продукт рефлексии над языком, совершаемой вовсе не сознанием говорящего на данном языке и вовсе не в целях самого непосредственного говорения.
В самом деле, ведь установка говорящего совершается в направлении к данному конкретному высказыванию, которое он произносит. Центр тяжести для него лежит не в тождественности формы, а в том новом и конкретном значении, которое она получает в данном контексте. Ведь для говорящего языковая форма важна не как устойчивый и всегда себе равный сигнал, а как всегда изменчивый и гибкий знак.
Но ведь говорящий должен учитывать точку зрения слушающего и понимающего. Может быть, именно здесь вступает в силу нормативная тождественность языковой формы?
И это не совсем так. Основная задача понимания отнюдь не сводится к моменту узнания примененной говорящим языковой формы как знакомой, как «той же самой» формы – как мы отчетливо, например, узнаем еще недостаточно привычный сигнал, или как мы узнаем форму малознакомого языка. Нет, задача понимания в основном сводится не к узнанию примененной формы, а именно к пониманию ее в данном конкретном контексте, к пониманию ее значения в данном высказывании, т.е. к пониманию ее новизны, а не к узнанию ее тождественности.
Другими словами, и понимающий, принадлежащий к тому же языковому коллективу, установлен на данную языковую форму, не как на неподвижный, себе тождественный сигнал, а как на изменчивый и гибкий знак.
Процесс понимания ни в коем случае нельзя путать с процессом узнания. Они глубоко различны. Понимается только знак, узнается же сигнал. Сигнал – внутренне-неподвижная, единичная вещь, которая на самом деле ничего не замещает, ничего не отражает и не преломляет, а просто является техническим средством указания на тот или иной предмет (определенный и неподвижный) или на то или иное действие (также определенное и неподвижное) [227].
Пока какая-нибудь языковая форма является только сигналом и как такой сигнал узнается понимающим, она отнюдь не является для него языковой формой. Чистой сигнальности нет даже в начальных фазах научения языку. И здесь форма ориентирована в контексте и здесь она является знаком, хотя момент сигнальности и коррелятивный ему момент узнания наличен.
Из всего этого, конечно, не следует, что момента сигнальности и коррелятивного момента узнания нет в языке. Он есть, но он не конститутивен для языка, как для такого. Он диалектически снят, поглощен новым качеством знака (т.е. языка как такового).
Языковое сознание говорящего и слушающего – понимающего, таким образом, в практической живой речевой работе имеют дело вовсе не с абстрактной системой нормативно-тождественных форм языка, а с языком-речью, в смысле совокупности возможных контекстов употребления данной языковой нормы. Слово противостоит говорящему на родном языке не как слово словаря, а как слово разнообразнейших высказываний языкового сочлена A, сочлена B, сочлена C и т.д. и как слово многообразнейших собственных высказываний. К этому нужно прибавить еще одно, в высшей степени существенное соображение. Речевое сознание говорящих, в сущности, с формой языка как таковой, и с языком как таковым, вообще не имеет дела.
В самом деле, языковая форма, данная говорящему лишь в контексте определенных высказываний, дана, следовательно, лишь в определенном идеологически контексте. Мы, в сущности, никогда не произносим слова и не слышим слова, а слышим истину или ложь, доброе или злое, важное