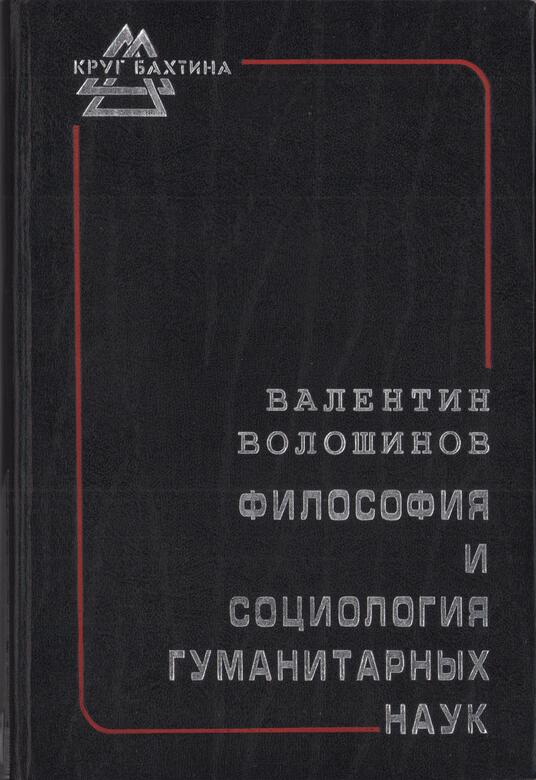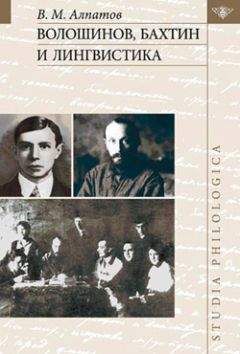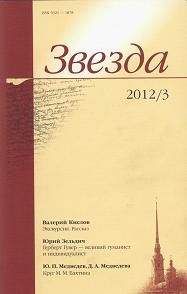или неважное, приятное или неприятное и т.п. Слово всегда наполнено идеологическим или жизненным содержанием и значением. Как такое, мы его понимаем и лишь на такое, задевающее нас идеологически или жизненно, слово мы отвечаем.
Критерий правильности применяется нами к высказыванию лишь в ненормальных или в специальных случаях (например, при обучении языку). Нормально критерий языковой правильности поглощен чисто идеологическим критерием: правильность высказывания поглощается истинностью данного высказывания или его ложностью, его поэтичностью или пошлостью и т.п. [228]
Разрыв между языком и его идеологическим наполнением – одна из глубочайших ошибок абстрактного объективизма.
Итак, язык как система нормативно-тождественных форм вовсе не является действительным модусом бытия языка для сознаний говорящих на нем индивидов. С точки зрения говорящего сознания, живой практики социального общения нет прямого пути к системе языка абстрактного объективизма.
Чем же в таком случае является эта система? С самого начала ясно, что система эта получена путем абстракции, что она слагается из элементов абстрактно выделенных из реальных единиц речевого потока – высказываний. Всякая абстракция, чтобы быть правомерной, должна быть оправдана какой-нибудь определенной теоретической и практической целью. Абстракция может быть продуктивной и непродуктивной, может быть продуктивной для одних целей и заданий, непродуктивной для других.
Какие же цели лежат в основе лингвистической абстракции, приводящей к синхронической системе языка? С какой точки зрения эта система является продуктивной и нужной?
В основе тех лингвистических методов мышления, которые приводят к созданию языка как системы нормативно-тождественных форм, лежит практическая и теоретическая установка на изучение мертвых чужих языков, сохранившихся в письменных памятниках.
Должно со всей настойчивостью подчеркнуть, что эта филологическая установка в значительной степени определила все лингвистическое мышление европейского мира. Над трупами письменных языков сложилось и созрело это мышление; в процессе оживления этих трупов были выработаны почти все основные подходы и навыки этого мышления.
Филологизм является неизбежной чертой всей европейской лингвистики, обусловленной категорическими судьбами ее рождения и развития. Как бы далеко в глубь времен мы ни уходили, прослеживая историю лингвистических категорий и методов, мы всюду встречаем филологов. Филологами были не только александрийцы, филологами были и римляне и греки (Аристотель – типичный филолог), филологами были индусы.
Мы можем прямо сказать: лингвистика появляется там и тогда, где и когда появились филологические потребности. Филологическая потребность родила лингвистику, качала ее колыбель и оставила свою филологическую свирель в ее пеленах. Пробуждать мертвых должна эта свирель. Но для овладения живой речью в ее непрерывном становлении у нее не хватает звуков. Совершенно справедливо на эту филологическую сущность индоевропеистического мышления указывает академик Н.Я. Марр.
«Индоевропейская лингвистика, располагая объектом исследования уже сложившимся и давно оформившимся, именно, – индоевропейскими языками исторических эпох, исходя при этом почти исключительно от окоченелых форм письменных языков, притом в первую очередь мертвых языков, естественно, не могла сама выявить процесс возникновения вообще речи и происхождения ее видов» [229].
Или в другом месте:
«Наибольшее препятствие (для изучения первобытной речи. – В.В.) чинит не трудность самих изысканий или недостаток в наглядных данных, а наше научное мышление, скованное традиционным филологическим или культурно-историческим мировоззрением, не воспитанное на этнолого-лингвистическом восприятии живой речи, ее безбрежно-свободных творческих переливов» [230].
Слова академика Н.Я. Марра справедливы, конечно, не только по отношению к индоевропеистике, задающей тон всей современной лингвистике, но и относительно всей лингвистики, какую мы знаем в истории. Лингвистика, как мы сказали, всюду дитя филологии.
Руководимая филологической потребностью, лингвистика всегда исходила из законченного монологического высказывания – древнего памятника как из последней реальности. В работе над таким мертвым монологическим высказыванием, вернее – рядом таких высказываний, объединенных для нее только общностью языка, лингвистика вырабатывала свои методы и категории.
Но ведь монологическое высказывание является уже абстракцией, правда, так сказать, естественной абстракцией. Всякое монологическое высказывание, в том числе и письменный памятник, является неотрывным элементом речевого общения. Всякое высказывание и законченное письменное на что-то отвечает и установлено на какой-то ответ. Оно – лишь звено в единой цепи речевых высказываний. Всякий памятник продолжает труд предшественников, полемизирует с ними, ждет активного, отвечающего понимания, предвосхищает его и т.д. Всякий памятник – реально неотделимая часть или науки, или литературы, или политической жизни. Памятник как всякое монологическое высказывание установлен на то, что его будут воспринимать в контексте текущей научной жизни или текущей литературной действительности, то есть в становлении той идеологической сферы, неотрывным элементом которой он является.
Памятник, таким образом, есть часть, член некоторого реального становящегося ряда, он ориентируется в его становлении и установлен на становящееся отвечающее понимание.
Филолог-лингвист вызывает его из этого реального ряда, воспринимает его так, как если бы он был самодовлеющим, изолированным целым, и противопоставляет ему не активное, реплицирующее, идеологическое понимание, а совершенно пассивное понимание, в котором не дремлет ответ, как во всяком истинном понимании. Этот изолированный памятник как документ языка филолог соотносит с другими памятниками в общей плоскости данного языка.
В процессе такого сопоставления и взаимоосвещения в плоскости языка изолированных монологических высказываний и слагались методы и категории лингвистического мышления.
Мертвый язык, изучаемый лингвистом, конечно, чужой для него язык. Поэтому система лингвистических категорий менее всего является продуктом познавательной рефлексии языкового сознания говорящего на данном языке. Это не рефлексия над ощущением родного языка, нет, это рефлексия сознания, пробивающегося, прокладывающего себе дороги в неизведанный мир чужого языка.
Неизбежно пассивное понимание филолога-лингвиста проецируется в самый, изучаемый с точки зрения языка, памятник, как если бы этот последний был сам установлен на такое понимание, как если бы он и писался для филологов.
Результатом этого является в корне ложная теория понимания, лежащая не только в основе методов лингвистической интерпретации текста, но в основе всей европейской семасиологии. Все учение о значении и теме слова насквозь пронизано ложной идеей пассивного понимания, понимания слова, активный ответ на которое заранее и принципиально исключен.
Такое понимание с заранее исключенным ответом в сущности вовсе не является пониманием языка речи. Это последнее понимание неотделимо сливается с заниманием активной позиции по отношению к сказанному и понимаемому. Для пассивного понимания и характерно как раз отчетливое ощущение момента тождества языкового знака, т.е. вещно-сигнальное восприятие его и в соответствии с этим – преобладание момента узнания.
Итак, мертвый – письменный – чужой язык – вот действительное определение языка лингвистического мышления.
Изолированное – законченное – монологическое высказывание, отрешенное от своего речевого и реального контекста, противостоящее не возможному активному ответу, а пассивному пониманию филолога, – вот последняя данность, исходный пункт лингвистического мышления.
Рожденное в процессе исследовательского овладения