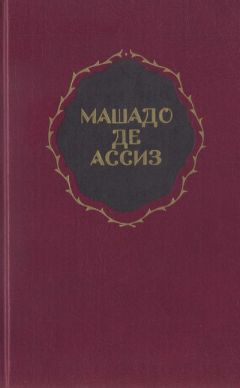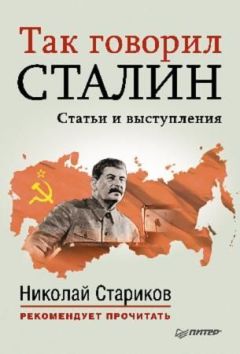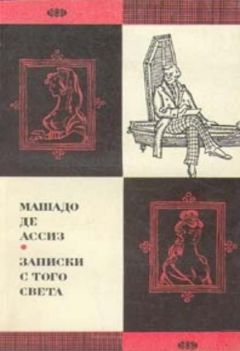Виржилия в растерянности молчала. На следующее утро мы встретились с ней в нашем домике в Гамбоа. Она была грустна, и дона Пласида, которой Виржилия уже успела обо всем рассказать, утешала ее как могла. Я тоже был подавлен.
— Ты должен поехать с нами,— сказала мне Виржилия.
— Ты сошла с ума? Что за безрассудство!
— Но тогда...
— Нужно заставить его отказаться от этого намерения.
— Это невозможно.
— Он уже дал согласие?
— Похоже, что да.
Я встал и, кинув шляпу на кресло, принялся шагать по комнате, не зная, что делать. Размышлял я долго, но так ничего и не придумал. Тогда я подошел к сидящей неподвижно Виржилии и взял ее за руку; дона Пласида отвернулась к окну.
— В этой маленькой ручке для меня смысл всей моей жизни, но она — твоя, поступай, как велит тебе сердце.
Виржилия тяжело вздохнула. Я стоял возле нее, опершись о столик. Несколько минут протекло в молчании; было слышно только, как где-то лает собака да рокочет вдалеке морской прибой. Виржилия не шевелилась, я взглянул на нее. Ее остановившийся, потухший взор был прикован к полу, руки застыли на коленях, и судорожно переплетенные пальцы говорили о крайней степени отчаяния. При других обстоятельствах, будь отчаяние Виржилии вызвано иными причинами, я без промедления бросился бы к ее ногам, дабы утешить ее доводами рассудка и словами любви, но в нынешнем положении необходимо было, чтобы Виржилия наконец хоть что-то сделала ради нашей любви, хоть чем-то поступилась во имя ее и хоть однажды приняла решение за нас обоих. И мне следовало оставить ее, предоставить самой себе и уйти, что я и сделал.
— Я повторяю: наше счастье в твоих руках,— проговорил я и вышел.
Виржилия хотела удержать меня, но я уже был на улице. Здесь до меня донеслись ее рыдания, и, клянусь вам, я едва не воротился, чтобы унять их поцелуями, но превозмог себя и поскорее ушел прочь.
Глава LXXIX
КОМПРОМИСС
Я никогда бы не закончил, ежели захотел бы рассказать в подробностях, что я пережил в эти первые часы. Я то умирал от любви к Виржилии, то почти ненавидел ее; жалость, которую я испытывал при мысли о ее семейном счастье, сменялась другим чувством, эгоистическим, твердившим мне: «Полно, пусть она сама решит эту задачу, пусть ее любовь сделает выбор». Оба эти чувства были одинаково сильны во мне, они нападали друг на друга и оборонялись одновременно — со страстью, упорством, и ни одно из них не желало уступить другому. Порой совесть моя вонзала в меня свои зубы, и я обвинял себя в том, что пользуюсь слабостью любящей и грешной женщины, принуждая ее пожертвовать всем ради моей персоны, но когда я уже готов был уступить укорам совести, любовь вытесняла ее и вновь советовала мне подумать о своем собственном счастье; так я метался в нерешительности, горя желанием увидеть Виржилию и опасаясь, что свидание с нею вынудит меня разделить ответственность за принятое решение.
В конце концов жалость и себялюбие пошли на компромисс: я увижусь с Виржилией у нее дома, в присутствии ее мужа,— это избавит меня от необходимости каких бы то ни было объяснений до тех пор, пока сама Виржилия не решит нашу судьбу. Так я примирил бурлящие во мне противоречивые чувства. Теперь, описывая все это, я понимаю, что тогда обманывал сам себя: жалость моя была не чем иным, как проявлением эгоизма, и желание утешить Виржилию было внушено мне моей же собственной страстью.
Глава LXXX
В КАЧЕСТВЕ СЕКРЕТАРЯ
На следующий день вечером я, как и намеревался, был в доме Лобо Невеса. Виржилию я застал очень грустной, его, напротив, очень веселым. Но, клянусь, я видел, что на душе у нее становилось легче, когда мы встречались с ней взглядами, вопрошающими и нежными. Лобо Невес поверял мне свои планы относительно будущего губернаторства, рассказывал о тамошних трудностях, о своих намерениях и замыслах; он был так счастлив и полон надежд! Виржилия, присев к столу, делала вид, что читает, но часто взглядывала на меня тревожно и вопросительно.
— Досаднее всего,— вдруг сказал Лобо Невес,— что я до сих пор не подыскал себе секретаря.
— Вот как.
— Да, и вот мне пришла в голову одна мысль...
— Какая же?
— Мысль... Не хотели бы вы совершить путешествие на Север?
Я не знал, что сказать.
— У вас есть средства, и вы, разумеется, не нуждаетесь в скудном секретарском жалованье, но ежели вы хотите оказать мне услугу, поедемте со мной в качестве моего секретаря.
Все во мне содрогнулось, словно я увидел перед собой змею. Я вперил испытующий взгляд в лицо Лобо Невесу, стараясь уловить в нем хотя бы тень тайной мысли. Ни тени; он смотрел на меня открыто и прямо, с невозмутимым выражением; в его невозмутимости не заметно было ни малейшего принуждения — сплошное добродушие, политое соусом радости. Я перевел дух, не в силах взглянуть на Виржилию. Я чувствовал на себе ее взгляд, он молил меня согласиться — и я сказал:
— Хорошо, я поеду.
В самом деле: губернатор, губернаторша и секретарь — это уже государственное решение вопроса.
Глава LXXXI
ПРИМИРЕНИЕ
И все же едва я покинул их дом, как сомнения снова зашевелились во мне; я подумал, что вряд ли имею право столь безрассудно подвергать опасности репутацию Виржилии и что следовало бы поискать более разумный способ, дабы совместить губернаторство и наш дом свиданий. Но сколько я ни размышлял, никакого другого способа не находилось. На следующее утро, встав с постели, я обнаружил в своей душе твердую решимость принять предложение Лобо Невеса. В полдень слуга доложил мне, что в гостиной меня ожидает какая- то дама под вуалью. Я поспешил в гостиную; дама оказалась моей сестрой Сабиной.
— Дальше так продолжаться не может,— заговорила она.— Мы должны помириться, ведь в нашем роду мы последние, а живем как два врага...
— Да я ничего так не желаю, как жить с тобою в мире, сестрица,— возопил я, простирая к ней объятия.
Я усадил ее рядом с собой и принялся расспрашивать, как поживают ее муж, дочка, как идут дела,— словом, обо всем. Все у них было благополучно; девочка прелестная, муж приведет показать ее мне, если, разумеется, я пожелаю.
— Ну зачем же! Я сам приду повидаться с племянницей.
— Придешь?
— Непременно.
— Так-то лучше! — с облегчением вздохнула Сабина.— Давно пора покончить с нашей ссорой.
Я нашел, что Сабина пополнела и помолодела. Она выглядела двадцатилетней, хотя на самом деле ей было уже за тридцать. Милая, приветливая, без тени принужденности или затаенной обиды. Мы разглядывали друг друга, держась за руки, и болтали обо всем и ни о чем, словно влюбленная парочка. Передо мной воскресало мое детство — привольное детство озорного светлоголового мальчишки; прошедшие годы рассыпались, словно колода потрепанных карт, которыми я забавлялся ребенком, и я вновь видел наш дом, всю нашу семью, наши семейные праздники... Я небольшой любитель сентиментальных воспоминаний, но тут вдруг припомнился мне наш сосед — парикмахер, пиликавший на скрипке, и этот звук,— поскольку все прошлое, проходившее до сих пор передо мной, было немо,— этот голос прошлого, гнусавый и тоскующий, взволновал меня до такой степени, что...
Глаза Сабины оставались сухими. Ей чужд был желтый и болезненный цветок ипохондрии. Но что из того? Она — моя сестра, родная кровь, частица моей матери, и я с искренней нежностью сказал ей об этом... Вдруг в дверь гостиной постучали, я пошел отворить и обнаружил за дверью ангелочка лет пяти.
— Войди, Сара,— разрешила Сабина.
Это была моя племянница. Я взял ее на руки и принялся целовать, малютка в испуге отталкивала меня ручонками и вырывалась, пытаясь сойти на пол... В эту минуту в дверь просунулась шляпа, а за ней — ее владелец, которым оказался Котрин, не кто иной, как Котрин. Я был так растроган его появлением, что, оставив девочку, бросился в объятия ее отца. Подобная чувствительность, видимо, привела его в замешательство,— во всяком случае, поначалу он вел себя как-то скованно. Но лишь поначалу. Вскоре мы уже беседовали с ним, как старые добрые друзья. Прошлого мы не поминали, зато строили всякие планы на будущее и прежде всего уговорились приглашать друг друга к обеду. Я не преминул, однако, уведомить сестру, что этот обмен обедами, возможно, будет нарушен на какое-то время, поскольку я намерен совершить поездку на Север. Сабина с Котрином переглянулись; мое намерение показалось им лишенным всякого смысла. Что я там забыл, на этом Севере? И зачем мне покидать столицу, где я уже добился такого успеха и где моя слава должна засиять еще ярче, к посрамлению всяких писак, из тех, что нынче в моде? Потому что, сказать по чести, ни один из них не может со мною равняться: он, Котрин, постоянно следил издали за моими успехами, и наша нелепая ссора не могла помешать ему гордиться и хвастаться ими. Он прислушивался к тому, что говорят о моей особе на гуляньях и в гостиных; похвалам и восторгам нет конца... И от всего этого уехать на несколько месяцев в провинцию, без видимой нужды и серьезных побуждений? Если только здесь не замешалась политика...