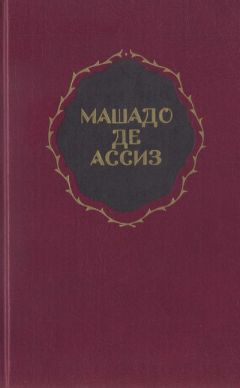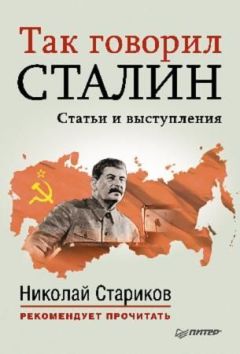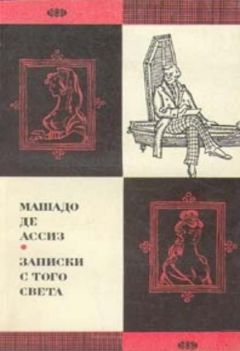— Но почему вас приводит в ужас такой пустяк? — спрашивал я дону Пласиду.
— Это не к добру,— отвечала она.
И все. Таков был ее ответ, и для нее самой эта фраза заключала в себе всю премудрость Соломонову. Не к добру. Так ей твердили в детстве, не снисходя до других объяснений, и она принимала на веру истинность дурных примет. Также не к добру, говорила она, показывать пальцем на звезды — верное средство подцепить на палец бородавку.
Бородавка или что другое — какое дело до этого тому, от кого не уплыл губернаторский пост? Зачем ему страдать от ни на чем не основанных и глупых предрассудков — разве можно зависеть от них, если хочешь чего-нибудь добиться в жизни? А Лобо Невес как раз на этом и споткнулся. Прибавьте к утрате губернаторского поста еще сомнения в правильности своего поступка и боязнь показаться смешным. Да еще прибавьте то, что министр не поверил его объяснениям и приписал его отказ политическим интригам, чему якобы нашлись доказательства. Лобо Невес попал в немилость, и его недавний покровитель поспешил испортить ему репутацию в министерских кругах; начались всякие истории, и в конце концов несостоявшийся губернатор вынужден был перейти в оппозицию.
Глава LXXXV
ВЕРШИНА ГОРЫ
Тот, кому удалось избегнуть смертельной опасности, любит жизнь с еще большей силой. Так и я влюбился в Виржилию с еще большей страстью после того, как едва не потерял ее, и то же самое случилось и с ней.
Таким образом, несостоявшееся губернаторство привело лишь к оживлению нашего чувства, явившись как бы возбуждающим снадобьем, которое сделало нашу любовь еще более сладостной и заставило нас еще больше дорожить ею. В первые дни после всех этих треволнений мы продолжали живописать друг другу горечь разлуки, если бы таковая нас постигла, тоску, которую испытывали бы мы оба, бескрайность моря, похожего на все увеличивающуюся в размерах гигантскую скатерть, отделяющую нас друг от друга. Как дети, напуганные пустячной угрозой, прячутся под материнскую юбку, так и мы с Виржилией прятались от воображаемой опасности в любовных объятьях.
— О моя Виржилия!
— Любовь моя!
— Ты моя, да?
— Твоя, твоя...
И затем мы вновь продолжали распутывать нить наших воображаемых злоключений, подобно Шехерезаде, разматывающей клубок своих сказок. В эти дни наша любовь достигла своего апогея, поднялась на вершину горы, откуда временами мы различали долины, лежащие к востоку и западу от нас, и созерцали невозмутимую лазурь небес над нашей головой. Отдохнув на вершине, мы начали тихонько спускаться по склону, то держась за руки, то не держась, но спускались и спускались...
Глава LXXXVI
ТАЙНА
И когда мы окончательно спустились, я заметил, что Виржилии как-то не по себе: то ли она устала, то ли еще что-то случилось; я спросил, что с ней, в ответ лицо ее изобразило гримасу досады, дурного самочувствия и усталости одновременно. Я не удовлетворился таким ответом и стал ее расспрашивать; тогда она сказала мне, что... Острый ток пронизал все мое тело: ощущение сильное, мгновенное и столь необычайное, что описать его я не в силах. Я взял руки Виржилии в свои и, легонько притянув ее к себе, поцеловал в лоб. Мой поцелуй был нежен, словно дуновение ветерка, и горестен, как поцелуй Авраама. Она встрепенулась и, сжав ладонями мою голову, пристально заглянула мне в глаза, потом ласково, по-матерински погладила меня по щеке. Вот это и есть тайна, которую я обещал тебе, любезный читатель, задумайся над ней и постарайся ее разгадать.
Глава LXXXVII
ГЕОЛОГИЯ
Как раз в это время произошло печальное событие: умер Виегас. Умер он скоропостижно: его, обремененного семьюдесятью годами, полузадушенного астмой, скрюченного ревматизмом, прикончил разрыв сердца. Он был одним из самых дотошных наших соглядатаев. Виржилия лелеяла надежду, что старик, приходящийся ей родственником,— о нем говорили, что он скуп, как могила,— обеспечит будущее ее сына, сделав его своим наследником; муж ее, по всей вероятности, также был не чужд подобных мыслей, но тщательно скрывал их и, видимо, не хотел признаться в этом даже самому себе. Справедливости ради я должен сказать, что где-то в недрах существа Лобо Невеса, словно глубинный пласт в горной породе, залегало чувство собственного достоинства, и оно-то и помогало ему подавлять в себе свойственное человеку корыстолюбие. Другие, верхние пласты, состоящие из рыхлой породы и песчаника, вымывались из него жизнью, этим вечным потоком. Если читатель еще не забыл прочитанную им главу XXIII, он заметит, что однажды я уже употребил это сравнение жизни с потоком; но следует также обратить внимание на то, что на сей раз к слову «поток» мною добавлен еще эпитет «вечный». А всем известна эмоциональная сила эпитета, особенно в молодых и жарких странах.
Сии соображения о нравственной геологии Лобо Невеса, а быть может, также и твоей, любезный читатель, излагаемые в моей книге, вряд ли высказывались кем-либо ранее. Да, эти пласты характера, которые жизнь видоизменяет, сохраняет или разрушает в зависимости от их сопротивляемости, заслуживают отдельной главы, но я не отваживаюсь на нее, дабы не затягивать своего повествования. Скажу лишь, что самым честным человеком, какого я знавал в своей жизни, был некий Жакоб Медейрос или Жакоб Валадарес, не помню точно его имени. Возможно, его звали Жакоб Родригес; в общем, Жакоб. Он был олицетворением честности; поступись он хоть самую малость своей щепетильностью, он мог бы стать богачом, но Жакоб не захотел; четыреста миллионов рейсов были почти у него в руках, и он преспокойно позволил им уплыть! Честность его была столь образцовой, что порою угрожала превратиться в нудную мелочность. Но однажды, когда мы вдвоем сидели у него дома и коротали время за приятной беседой, слуга доложил, что пожаловал доктор Б., назойливый и малосимпатичный субъект. Жакоб приказал ответить, что его нет дома.
— Не утруждайтесь,— послышался голос из коридора,— я уже здесь.— И доктор Б. собственной персоной появился в дверях гостиной.
Жакобу ничего не оставалось, как принять незваного гостя и рассыпаться перед ним в извинениях; он, мол, никак не ожидал, что это доктор, и потому отдал такое распоряжение; и для пущей убедительности Жакоб даже прибавил, что чрезвычайно рад визиту доктора. Это обрекло нас на полтора часа смертельной скуки, на целых полтора часа, после чего Жакоб вытащил часы; доктор осведомился, не собирается ли хозяин уходить.
— Да, моя жена просила меня ее сопровождать,— отвечал Жакоб.
Доктор Б. откланялся, и мы вздохнули с облегчением. Когда мы немного пришли в себя, я сказал Жакобу, что он на моих глазах солгал четыре раза подряд в течение двух часов: первый раз, когда велел сказать, что его нет дома, второй — когда выражал радость докучливому гостю, третий — когда выдумал, что должен выйти из дому, и четвертый — когда сослался при этом на жену. Жакоб на мгновение задумался, потом, признав справедливость моего упрека, начал оправдываться тем, что полная правдивость невозможна в нашем цивилизованном обществе, что общественное спокойствие зиждется лишь на взаимных обманах и хитростях. Ах, я вспомнил: его звали Жакоб Таварес.
Глава LXXXVIII
БОЛЬНОЙ
Не стоит описывать, с какой легкостью я опроверг опасное заблуждение моего приятеля, который был пристыжен моим замечанием и упорствовал скорее всего лишь потому, что хотел успокоить собственную совесть.
С Виржилией все обстояло несравненно сложнее. Она была куда менее щепетильна, чем ее супруг, и даже не думала скрывать надежд, связываемых ею с завещанием. При жизни она осыпала Виегаса всевозможными знаками внимания и была с ним столь нежна и обходительна, что, несомненно, могла рассчитывать хотя бы на часть наследства. Попросту говоря, она заискивала перед ним; но я давно уже заметил, что женская угодливость отлична от мужской. Последняя всегда отдает раболепством, а женская легко сходит за выражение пылкой любви. Изящно-соблазнительные позы, милые словечки и даже физическая хрупкость придают женской угодливости некий особый оттенок, который делает ее вполне приемлемой и естественной. Возраст объекта в данном случае не важен: женщина всегда найдет по отношению к нему нужный тон; она будет говорить с ним как мать или сестра или как сиделка — последняя роль, несомненно, является женской привилегией, ибо самый хитрый мужчина не в силах устоять перед неким магнетизмом и еще черт знает чем, что заключено в угодливости женщин.
Так я размышлял, наблюдая, как Виржилия вся исходит нежностью к своему престарелому родичу. Она всегда встречала его у дверей, сразу же принимаясь болтать и смеяться, отбирала у него шляпу и трость, предлагала руку и спешила усадить в кресло, в его кресло, ибо в доме Виржилии существовало «кресло Виегаса», особой конструкции, чрезвычайно покойное, предназначенное для больных и стариков. Затем Виржилия затворяла ближайшее окно, если на улице был хоть малейший ветерок, в случае жары она столь же поспешно его открывала, но с осторожностью, заботясь, чтобы ток воздуха не коснулся старика.