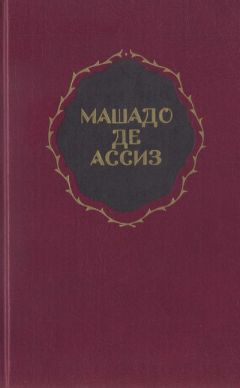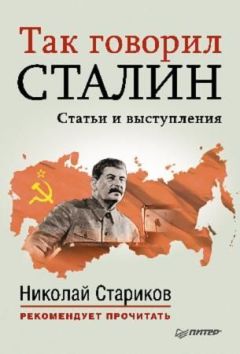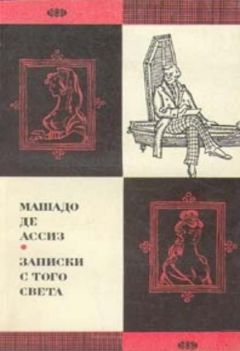— Именно политика,— подхватил я.
— Ах, вот как,— протянул он, помолчав.
Потом, помедлив еще, сказал:
— Как бы то ни было, приходите сегодня к нам обедать.
— Приду непременно, а завтра или послезавтра прошу вас ко мне на обед.
— Не знаю, не знаю,— возразила Сабина.— Обед в доме холостяка... Тебе надо жениться, дорогой. Я хочу понянчить племянницу, слышишь?
Котрин прервал ее жестом, значения которого я не понял. Но меня это не огорчило — мир в семье стоит загадочного жеста.
Глава LXXXII
ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ
Пусть ипохондрики говорят что хотят, но жизнь все- таки хороша. Так я думал, следя за тем, как Сабина с мужем и девочкой шумно спускаются по лестнице, посылая мне наверх, на лестничную площадку, где я стоял, разные милые словечки; я отвечал им тем же. Но ведь и в самом деле — разве я не счастлив? Виржилия меня любит, ее муж мне доверяет, я еду с ними в качестве официального лица, и, наконец, я помирился с родственниками. О чем еще может мечтать человек?
В тот же самый день, желая подготовить общественное мнение, я начал повсюду распространять версию о том, что еду на Север с намерением всерьез заняться политической деятельностью. Я говорил это, гуляя по улице Оувидор, и назавтра повторил у «Фару» и в театре. Кое-кто, связав мою поездку с миссией Лобо Невеса, о которой уже было известно, не без ехидства улыбался, другие похлопывали меня по плечу. В театре одна дама язвительно заметила, что моя страсть к античным статуям может завести меня очень далеко. Она явно намекала на античные формы Виржилии.
Еще более прозрачный намек мне пришлось выслушать в доме Сабины три дня спустя от некоего Гарсежа, хирурга, похожего на старого карлика, болтливого пошляка, который, доживи он до шестидесяти, восьмидесяти и даже до девяноста лет, все равно никогда не обрел бы строгого благообразия, приличествующего старости.
— Ну ясно, на сей раз вы едете, чтобы на покое заняться Цицероном,— объявил он мне, услыхав о моей поездке.
— Цицероном?! — изумилась сестра.
— А почему бы нет? Ваш брат — великий знаток латыни. Вергилия переводит запросто... Прошу не путать Вергилия с Виржилией...— И он разразился грубым, утробным и непристойным хохотом.
Сабина с беспокойством взглянула на меня, не зная, как я отнесусь к этой выходке, но, увидев, что я улыбаюсь, улыбнулась сама и поскорее отвернула лицо, чтобы присутствующие не заметили ее улыбки. Гости Сабины смотрели на меня с выражением любопытства и снисходительной доброжелательности, заметно было, что ничего нового они не услышали. Моя любовная история приобрела гласность гораздо более широкую, чем я предполагал. А моя улыбка, еле уловимая, мимолетная и многозначительная, была достаточно красноречива. Да, Виржилия — мой грех, но грех восхитительный, и сознаваться в таком грехе — одно удовольствие. Поначалу, слыша подобные намеки, я мрачнел, хотя и тогда, клянусь, в глубине души они были мне приятны и льстили моему самолюбию. Но однажды, когда кто-то прошелся на мой счет, я неожиданно для себя улыбнулся и с тех пор всегда улыбался в подобных случаях. Не знаю, сумел ли бы кто-нибудь объяснить природу этого явления, я же пытаюсь объяснить его следующим образом: поначалу мое самодовольство было тайным и потому улыбка моя тоже была обращена внутрь, подобно лепесткам в бутоне; но прошло время, и бутон раскрылся на глазах любопытствующих зрителей. Простейший эпизод из жизни растений.
Глава LXXXIII
ТРИНАДЦАТЬ
Котрин вывел меня из этого приятного состояния, отозвав к окну.
— Позвольте мне сказать вам одну вещь,— доверительно начал он,— откажитесь от этой поездки; это опрометчиво и рискованно.
— Почему?
— Вы прекрасно знаете почему,— не без резкости ответил он.— Повторяю, вы рискуете, и рискуете многим. Здесь, в столице, история, подобная вашей, не слишком обращает на себя внимание по причине многолюдства и светской суеты. Но в провинции это все будет выглядеть иначе; и поскольку речь идет о людях, занимающих государственные посты, то ваше положение и в самом деле будет в высшей степени скользким. Оппозиционные газеты, чуть только пронюхают, в чем дело, мигом оповестят о том своих читателей, не скупясь на подробности, и пойдут карикатуры, шуточки, прозвища...
— Но я не понимаю...
— Понимаете, понимаете. Неужели вы так мало нам доверяете, что не хотите сознаться в том, о чем осведомлены решительно все. Я узнал о вашей истории много месяцев назад. Еще раз вас прошу, откажитесь от этой поездки. Разлуку вы как-нибудь переживете, но если вы поедете, скандала вам не миновать, и вас ждут большие неприятности.
Сказав это, Котрин оставил меня и вернулся к гостям. Сквозь оконное стекло мне был виден уличный фонарь на углу — старинный масляный фонарь, унылый, тусклый, согнутый, словно вопросительный знак. Как же мне теперь поступить? Поистине гамлетовское положение: то ли подчиниться судьбе, то ли вступить с ней в поединок и победить ее? Другими словами: ехать или не ехать? Вот в чем вопрос. Фонарь не мог мне на него ответить. Слова Котрина все еще звучали у меня в ушах; я отнесся к ним куда серьезнее, нежели к словам Гарсежа. Вероятно, Котрин прав; но как могу я расстаться с Виржилией?
Ко мне подошла Сабина и спросила, о чем это я задумался. Я ответил, что ни о чем я не думаю, просто меня клонит ко сну и я хочу отправиться домой. Сабина немного помолчала.
— Я знаю, что тебя заботит; тебе нужно жениться. Не горюй, я непременно подыщу тебе невесту.
Я вышел из дома Сабины удрученный и вконец сбитый с толку. Все во мне уже настроилось на эту поездку — и рассудок и сердце,— и вдруг на пути моем встает привратник условностей и требует у меня входной билет. К черту все условности, а с ними вместе и конституцию, и законодательство, и министерства — все, все.
На другой день, развернув газету, я прочел, что указом от 13-го числа мы, Лобо Невес и я, назначены соответственно губернатором и секретарем провинции. Я тут же послал Виржилии записку и, выждав два часа, направился к нашему домику в Гамбоа. Бедная дона Пласида! Раз от разу она выглядела все более печальной; и все спрашивала меня, не забудем ли мы нашу старушку, если поездка затянется и мы будем так далеко от нее. Я, как мог, ее утешал, но и сам нуждался в утешениях: доводы Котрина приводили меня в уныние. Виржилия не заставила себя ждать, щебечущей ласточкой влетела она в комнату, но, увидев, что я чем-то расстроен, сразу сделалась серьезной.
— Что-нибудь случилось?
— Я в затруднении,— начал я.— Не знаю, могу ли я принять...
Виржилия, смеясь, опустилась на канапе.
— Почему? — сквозь смех спросила она.
— Это неудобно, все слишком бросается в глаза...
— Но мы уже не едем.
— Как не едем?
И тут Виржилия мне рассказала, что ее муж отказался от этого назначения по причине, которую он открыл только ей, под большим секретом, взяв с нее слово, что она никогда никому этого не скажет.
— Причина ребяческая и смешная, он сам это отлично понимает, но для него она достаточно основательна. Дело в том, что указ о его назначении принят тринадцатого числа, а с этим числом у него связаны самые печальные воспоминания. Его отец умер тринадцатого, и это случилось ровно через тринадцать дней после одного званого обеда, на котором с ним вместе оказалось тринадцать человек. Мать его скончалась в доме номер тринадцать. И так далее. В его жизни это число всегда оказывается роковым. Разумеется, в разговоре с министром он не мог сослаться на такого рода причину. Он объяснил, что вынужден отказаться по обстоятельствам личного характера.
Я, как и ты, любезный читатель, был несколько ошарашен тем, что губернаторский пост принесен в жертву какой-то цифре; но, зная, как честолюбив Лобо Невес, я не мог усомниться в его искренности.
Глава LXXXIV
КОНФЛИКТ
О роковое число, знаешь ли ты, какое великое множество раз я благословлял тебя? Вероятно, так должны были благословлять рыжекудрые фиванские девушки кобылицу с огненной гривой, спасшую их от смерти,— благородную кобылицу, которая почила вечным сном, усыпанная цветами, и с тех пор никто ни разу не помянул ее добрым словом. Но я помяну тебя, сострадательная кобылица, и не потому, что ты унесена смертью, а потому, что среди спасенных тобою девушек вполне могла оказаться прародительница Кубасов. Роковое число, для нас ты стало спасительным. Разумеется, Лобо Невес не сообщил мне истинной причины своего отказа, сославшись на пресловутые частные обстоятельства. Серьезно-доверчивая мина, с которой я его выслушал, могла бы сделать честь самому отъявленному лицемеру. Однако Лобо Невес не в силах был скрыть овладевшего им глубокого уныния; он сделался молчалив, часто задумывался, большую часть времени проводил дома за чтением. В другие дни, принимая гостей, он, напротив, был весел и говорлив до чрезвычайности, вел себя шумно, но чувствовалось, что все это напускное. С одной стороны, его мучило честолюбие — еще бы, он упустил такую блестящую возможность, с другой — его донимало сомнение или, вернее, раскаяние в содеянном, хотя, окажись он вновь в подобном положении, он снова поступил бы так же и снова раскаивался бы в своем поступке,— будучи суеверным по натуре, он понимал нелепость своих предрассудков, но был не в силах освободиться от них. Такая стойкость чувства, которое у самого его носителя не вызывает ничего, кроме отвращения, заслуживает того, чтоб остановиться на ней подробнее. Тем не менее я предпочитаю простодушную суеверность доны Пласиды, которая признавалась, что не может видеть, когда кто-нибудь качает ногой.