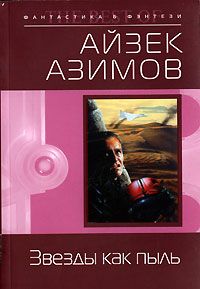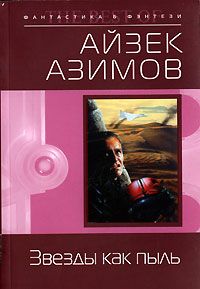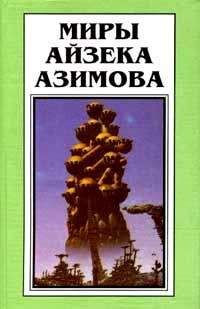16 февраля 2010
Снились вишнёвые косточки. Сад, где не растут вишнёвые деревья, а всё какие-то пальмы и кактусы, но на полу, в трещинах между каменными плитами, на столах и лавочках — миллионы вишнёвых косточек, разбросанных как бы случайным образом, но, присмотревшись, понимаешь, что в композиции их присутствует всё же какой-то неуловимый — я бы сказал, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ — порядок. Не помню, зачем я был там, помню, что долго рассматривал косточки, подбирал их и даже пробовал на вкус (вкус отсутствовал, и это меня почему-то беспокоило).
Снилось, что в Тель Авив приезжает Иисус Христос, но не тот самый, а тёзка из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда». На улицах — волнения, аэропорт оцеплен, повсюду — камеры и микрофоны, отели переполнены, на тумбах — портреты, как поясные, так и в полный рост. В аэропорту — настоящее столпотворение, не протолкнуться. Наконец, самолёт садится. Дают трап. Тишина. И вдруг все падают на колени — все как один, как подкошенные. Я тихонько (практически — себе под нос) бурчу: «С ума посходили, это же не ТОТ Христос». В полной тишине моё бурчание звучит неожиданно громко, я невольно пригибаюсь, и у меня появляется непреодолимое желание упасть на колени — просто для того, чтобы никто не догадался, что это именно я усомнился в подлинности Христа.
Снились проводы Доктора. Доктор (совершенно незнакомый мне человек, смахивающий на мультипликационного Айболита — седая бородка, усики, халат) собирается в Австралию — лечить аборигенов от ретровируса (что бы это ни значило). В моём доме устроена вечеринка по этому поводу. Люди пьют, веселятся, пляшут, обнимают ушельца, публично прощаются с ним. Несмотря на то, что я определённо имею какое-то отношение к происходящему, стесняюсь проявить чувства — мне очень жа л ь расставаться с Доктором, но я не нахожу в себе силы подойти к нему. Наконец, все потихоньку расходятся, и я решаюсь.
«Ну, — протягиваю ему руку, — надеюсь, тебе не будет скучно без нас — в Австралии».
Он протягивает руку в ответ, в руке — большой стеклянный термометр: «Мы должны разломить его пополам, чтобы он служил нам знаком. Когда наши потомки встретятся, они узнают друг друга по двум половинкам термометра, идеально подходящим друг к другу».
«Но если мы его сломаем, — беспокоюсь я, — ртуть выльется».
«Это не ртуть, — отвечает Доктор, — это светлое золото».
И в самом деле, я вижу, что термометр наполнен некой светящейся жидкостью золотого цвета. Мы переламываем его, и в моей руке остаётся стеклянный факел, истекающий золотой лавой.
Я беспокоюсь, что золото выльется, но Доктор меня успокаивает, утверждая, что эта жидкость имеет свойство наполнять собою пространство, не убавляясь и не исчезая.
«Куда бы Это спрятать?» — спрашиваю я, оглядываясь по сторонам.
«Зачем же Это — прятать?» — удивляется Доктор.
Вопрос застаёт меня врасплох. «Ну как же… — пытаюсь подобрать слова, — я же не могу ходить с Этим по улицам».
«Конечно, можешь, — отвечает Доктор, — иначе ты не сумеешь измерить температуру, когда придёт твоё время лечить.»
Снилась выставка-продажа существительных.
Купил слово «дышло» и, не отходя от кассы, переоборудовал. Отныне «дышло» — синоним слова «человек» (с оттенком незлобивой иронии и лёгким привкусом китайской натурфилософии). В смысле — инструмент дыхания.
То, чем продувают пространство, поют, свистят, дышат.
Снилось, что заблудился в собственной квартире: не могу найти дорогу с веранды на кухню. При этом я понимаю, что стоит открыть дверь, сделать три шага, и я попаду на кухню, но точно знаю: этот путь для меня по какой-то причине закрыт. Выхожу на улицу Предварительные замечания и заглядываю в комнату: можно было бы забраться через окно, но на окнах решётки. Тут я вдруг понимаю, что по той же причине, что я не могу пройти из комнаты в комнату как делал это тысячу раз, не задумываясь, я способен проникнуть на кухню через окно, минуя решётки. И в самом деле, я прохожу сквозь стекло, сквозь решётки, и оказываюсь на кухне. Никого нет, кроме кошки, которая сидит на холодильнике — рядом со своей миской. Кошка открывает глаза и смотрит прямо на меня, прижав уши. Кажется, она меня побаивается. Тут я задумываюсь о том, почему всё так странно — почему я не мог войти в дверь, зато с лёгкостью вошёл в окно, и понимаю: я сплю и хожу во сне. Эта мысль приносит мне облегчение, я припоминаю, что не первый раз оказываюсь в подобной ситуации, но теперь меня беспокоит расположение предметов на кухне: в самом ли деле на плите должен стоять огромный медный котёл — я не могу припомнить, был ли у меня такой? Зачем мне таких размеров посудина?
Подхожу поближе, открываю крышку и вижу, что в котле — пусто. Тут я понимаю, что мне нужно самому забраться в котёл и таким образом приготовить ПЕРВОЕ БЛЮДО (что бы это ни значило). Эта идея, которая теперь, наяву кажется довольно сомнительной, во сне не вызвала никаких негативных реакций. Я твёрдо знал, что не могу таким образом причинить себе вред, поскольку моё тело не способно деформироваться под воздействием жара. Более того, я понимал, что котёл этот существует только здесь и теперь, и только для меня.
Снилось, что идёт снег, и люди передвигаются по Тель-Авиву на санях, запряжённых оленями. Во сне меня не удивили ни сани, ни олени, а удивила зима. Почему зима? Опять зима? — растерянно спрашивал я, и мне отвечали укоризненно: всё ты виноват — не перевёл вовремя стрелки. Теперь, пока не наполнишь корзины, не накормишь оленей и не повернёшь вспять ветры, будет зима.
Снилась река, и у реки — шатёр на манер циркового. Развеваются флаги, на экранах пляшут какие-то неоновые буквы, горят огни и вращаются китайские фейерверки. И — ни души, ни одного человека.
Подхожу ближе. Вход в шатёр прикрыт бархатной шторой. На ней огромными золотыми буквами вышиты слова:
«КЛОУНЫ — ОТРОСТКИ ПУСТОТЫ».
Снова зимние сны: посреди Тель Авива — замёрзшее озеро, и прямо во льду, по центру — разукрашенная новогодняя ёлка. Вокруг ёлки водят хоровод — ежи, хомячки, собачки и лисички. Я спрашиваю: почему зима?
Опять, что ли, зима? И мне отвечают: всё из-за тебя. Ты обещал вычерпать воду, и не вычерпал. Теперь — пока не выполнишь обещанного — будет зима. Я пробую лёд ногой — твёрдый. Не проломишь. И тут вижу: глубоко внизу, подо льдом — какие-то люди. Присматриваюсь: свет у них там горит, какая-то жизнь происходит — прямо подо льдом, в озере. Я говорю: а ну, дружненько, взяли. и тут все лисички, собачки и хомячки хватают ёлку, выдёргивают её — как морковку за хвостик — и ударяют ёлкой по льду. Сыпятся игрушки, труха какая-то, серпантин. Лёд трескается, люди внизу недоуменно поднимают головы — словно только теперь поняли, что прямо над ними, наверху — что-то происходит. Я зачерпываю ладошкой прохладную воду из озера, пробую на вкус, и — просыпаюсь.
Снился гигантский древний ледокол, вмёрзший в лёд. Я живу в его тени, на льдине, в круглой пластмассовой палатке красного цвета. Время от времени доносятся удары железа о железо — я знаю, что ледокол чинят, но самих ремонтников не вижу и даже не знаю, как они выглядят. Зато ко мне часто наведываются моржи, альбатросы и какие-то странные твари в скафандрах, живущие на дне океана. Я не знаю, кто это, поскольку они никогда не снимают своих скафандров, но за стеклами шлемов вижу лица, ничем не напоминающие человеческие. Из всех посетителей говорить со мной могут только альбатросы — они разносят новости. Альбатросы рассказывают, что ближе к корме (ледокол так велик, что сам я никогда не дохожу до кормы во время своих прогулок) поселились белые медведи, что пробоину, наконец, залатали, что появилась радиосвязь, и если мне захочется послушать музыку, я могу подняться на борт и зайти в радиорубку. Мне не очень нравится эта идея: почему-то я избегаю встреч с членами экипажа, и сама мысль о том, что на ледоколе кто-то есть, мне неприятна.
Я прошу альбатросов не говорить со мной больше об экипаже. Они озадаченно переглядываются и вдруг говорят: тебе всё равно придётся встречаться с членами экипажа, поскольку скоро корабль починят, и вам нужно будет плыть дальше.
Но я не хочу никуда плыть, и отвечаю, довольно резко: пусть плывут без меня.
Предварительные замечания Они не могут уплыть без тебя, — говорят альбатросы, — ведь ты — капитан корабля.
PS: Перечитал предыдущую запись недельной давности, и стало как-то не по себе: сюжет зимы, льда, холода — развивается, и — самое главное — в природе (наяву) зимние рудименты берут власть в свои руки, лето всё никак не начнётся. Сегодня, например, был такой туман поутру, каких летом (да и весной) в Израиле просто не бывает.