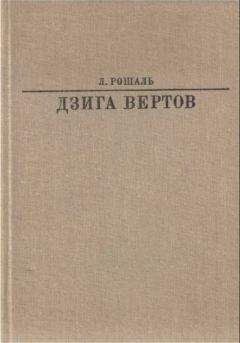Необычное для мальчика увлечение.
Но оно уже не покидало его.
Следующим этапом был — «Лесопильный завод».
Здесь страдания по-прежнему юного Вертова (которым, впрочем, он не очень предавался) были связаны с тем, что девушка к назначенному часу свидания у озера часто опаздывала, — ей было трудно убегать из дому.
Рядом с озером был лесопильный завод помещика Славянинова.
Коротая время, Вертов подолгу слушал звуки завода, а потом пытался их описать то словами, то буквами.
Он занялся монтажом стенографически записанных реплик и граммофонных записей (в частности, отрывков из любимого им Скрябина).
С грамзаписями дело шло трудно, а вот работа по ритмической организации слов увлекла по-настоящему. Сцепляя друг с другом слова и группируя определенный ряд понятий вокруг той или иной темы, он создавал своеобразные этюды.
Житейски обычные слова были прозаичны, но заложенный в их смысловом сцеплении ритмико-звуковой лад сближал эти этюды с поэзией.
Интерес к организации реальных звуков в осмысленную систему не прошел бесследно.
С самого начала двадцатых годов, тогда, когда об этом еще никто не думал, а если думал, то больше с испугом, Вертов заговорил о звуковом кино, о его неизбежности.
Многие эпизоды его журналов и фильмов немого периода сделаны с полным предощущением звука.
Слышимый мир будет всегда волновать Вертова — будь то заводские гудки, или медь праздничного оркестра, или взрывные работы на строительстве ГЭС.
Или искреннее звучание непосредственного человеческого рассказа.
Ранние опыты по ритмическому монтажу звуковых элементов Вертов называл «лабораторией слуха».
Он называл их также своей «докинематографической деятельностью».
Но как раз «докинематографическая деятельность» прямо привела его в кино.
Юношеская полузабава, превратившаяся в стойкое увлечение, была связана со стремлением найти способ фиксации пусть пока только звуковых, по (что гораздо важнее) реальных, жизненно подлинных проявлений окружающего мира.
Поэтому «докинематографическая деятельность» Вертова привела его не просто в кино, а именно — в документальное кино.
В тезисах статьи «Рождение „Кино-Глаза“», написанных в 1924 году, предельно сжато рассказав о юношеском интересе к возможности записывать документальные звуки, к опытам по записи словами и буквами шума водопада, звуков лесопильного завода и т. д., Вертов, продолжая, пишет: «И однажды, весной 1918 года, — возвращение с вокзала. В ушах еще вздохи и стуки отходящего поезда… чья-то ругань… поцелуй… чье-то восклицание… Смех, свисток, голоса, удары вокзального колокола, пыхтенье паровоза… Шепоты, возгласы, прощальные приветствия… И мысли на ходу: надо, наконец, достать аппарат, который будет не описывать, а записывать, фотографировать эти звуки. Иначе их сорганизовать, смонтировать нельзя. Они убегают, как убегает время. Но, может быть, киноаппарат? Записывать видимое… Организовывать не слышимый, а видимый мир. Может быть, в этом — выход?..
В этот момент — встреча с Мих. Кольцовым, который предложил работать в кино».
Приглашение Кольцова сразу обещало возможность выхода смутным, вроде бы неразрешимым стремлениям.
Надо полагать, Вертов это понял и оценил мгновенно.
Он еще не знал всех особенностей кинематографического ремесла, но, придя в кино, уже неплохо знал, что от него хочет.
Если отбросить многие (весьма важные) частности, то можно сказать, что хотел он двух основных вещей: воспроизведения подлинной революционной действительности в обилии ее проявлений, во-первых, и разнообразной смыслово-ритмической организации этих проявлений в единое целое, где в свою очередь единство обусловливается неожиданным и сложным слиянием прозы и поэзии, — это во-вторых.
Конечно, стремление к подобному двуединству в то время не выражалось в окончательно ясных формулировках, какими объяснял это стремление Вертов позже или какими его можно попробовать объяснить теперь.
Путь от познания возможностей до первых осуществлений желаемого будет не таким уж близким. По крайней мере четыре года уйдут на овладение ремеслом. Вкус к «тайнам» ремесла Вертов не потеряет и в дальнейшем. Но в дальнейшем (после этих четырех лет) ремесло все тверже будет подчиняться желанной цели.
Приглашение Кольцова послужило поводом для прихода Вертова в кино.
Но оказалось, что повод был подготовлен достаточно вескими причинами.
Не в этом ли ответ на загадку столь свободного и скорого вхождения Вертова в кинематограф?
И не становятся ли теперь более понятными некоторые строчки стихотворения Вертова, посвященного самому себе?
Разве нет связи между вот этим описанием того, что услышал Вертов на вокзале весной восемнадцатого года: «чья-то ругань… поцелуй… чье-то восклицание… смех… голоса… шепоты… возгласы… прощальные приветствия», и строкой «вертеп ртов»?
Разве нет связи между словами: «вздохи и стуки отходящего поезда… свисток… удары вокзального колокола… пыхтение паровоза…» и словом «автовизги»?
И не намек ли в строке «Но — дзинь! — вертеть диски» на увлечение монтажом грамзаписей, которое оказалось малоплодотворным?
Теперь вертеть диски можно было бросить.
Потому что гонг призвал в кино.
И он же позвал совершить совсем уж чудной поступок — прыжок с почти двухэтажной высоты садового грота во дворе кинокомитетского особняка.
Вертова еще можно остановить.
Только кто остановит?
Собравшиеся в садике — вряд ли: для них это просто забавное зрелище. Чудачество.
Сам он тоже не остановится: слишком велико желание. Кроме того, неудобно перед неожиданными зрителями, подумают — испугался.
Нет, ничего трагического не произойдет.
Высота хоть и рискованная, но в общем не такая уж страшная. Вертов вполне благополучно опустится на землю.
Но когда Вертов коснется ее, он еще не будет знать, что отсюда, от этой точки, начнется его дорога.
На этой дороге будут необыкновенные открытия и выдающиеся победы. Но как и всякие истинные победы, они потребуют несгибаемости, мужества многих преодолений.
В речи о Льве Толстом Анатоль Франс сказал: «Слабость не может проповедовать истину».
Искатель истины, всегда стремившийся к обнажению подлинной правды, Вертов чувствовал это.
И не только чувствовал, но и понимал — слова Франса записаны в его дневнике.
Он ходил в кожанке.
И носил галифе, заправленные в высокие краги.
А студенческая фуражка скоро заменилась мотоциклетным кепи, тоже кожаным (любил и велосипед, и мотоцикл).
В устных и в появившихся вскоре печатных выступлениях был громок, бескомпромиссен, задиристо, нередко обидно резок.
Но в красивом лице всегда чувствовалась детская незащищенность.
Глаза — слегка навыкате, словно старавшиеся побольше вобрать увиденного вокруг себя, и вместе с тем опрокинутые глубоко внутрь себя — защищали Вертова. Они защищали то отраженной в них его уверенностью в своей правоте, то иронической усмешкой, то мудростью трезвого, холодного понимания, то печалью.
А все остальное было беззащитным — мягкие складки в уголках рта, совсем уж какая-то детская ямочка на подбородке.
Собравшихся вокруг него в начале двадцатых годов кинематографистов Вертов назовет «киноками». И станет не раз повторять: «Киноки — дети Октября!»
Эта формула, не означавшая в устах Вертова ничего иного, кроме его убеждения, что возглавленное им направление в кино рождено революцией, поразительна своей многослойностью.
Начало пути Вертова совпало с началом самого Октября. С эпохой его детства, когда мудрость целей революции, ее идеалов сочеталась с непосредственностью и с поистине детской чистотой чувств восприятия этих целей и идеалов.
Спустя десятилетия в некоторых высказываниях, в мемуарах о Вертове будет проскальзывать мысль о том, что он навсегда остался во времени военного коммунизма. Одни будут отмечать это с сожалением, другие с удивлением, третьи — уважительно.
Военный коммунизм был периодом сложным, вынужденным, драматически напряженным. И вместе с тем для этого времени характерны открытость, прямота позиций, исключавшие двусмыслие.
Своеобразие момента заключалось в отсутствии возможностей для осуществления второй части коммунистического принципа — каждому по потребностям. Но каждого революция призывала к максимальному раскрытию творческих способностей. Слом старых отношений одновременно предполагал всемерное выявление творческих начал для постройки новых форм жизни, новых форм человеческого общения.
И оказалось, что для многих людей, в том числе для тех, которые еще совсем недавно жили в достаточном согласии с потребностями, первая часть коммунистического принципа гораздо важнее второй.