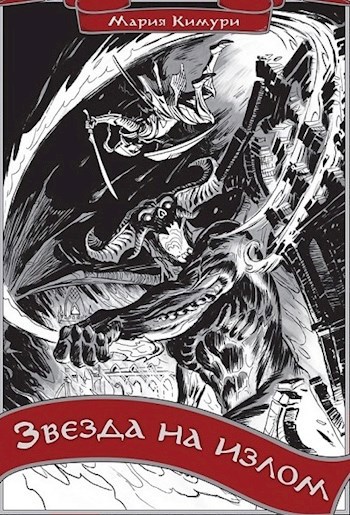спустя
Дождь стучал по крышам и ставням, превращал площадку для учебных боёв в сущее болото. В этот раз после урока борьбы без оружия все участники покрылись грязью и мокрыми опилками, так, что адана от эльда трудно стало отличить. Поеживаясь, все разбежались чиститься и мыться, и только оставшись в одиночестве, Руссандол взялся за меч.
Сделал несколько взмахов, нанес удары по чучелу в орочьих доспехах, по деревянным болванам. Разошелся, нанося удары все быстрее и быстрее... Остановился. Выругался.
Повторил ещё раз. И ещё. Злясь с каждым разом всё больше.
Вбросил меч в ножны, вылил на себя три ведра воды из колодца, не снимая кожаной перчатки с левой руки, и стремительно поднялся к себе - как был, мокрым насквозь.
Первым делом он протер и высушил стальную руку, оберегая неповторимую работу Куруфина, и меч, и лишь после того вытерся сам и переоделся. И уже последним - снял перчатку с левой руки.
На стол закапало.
Пальцы вновь сочились из-под повязок кровью и сукровицей, словно прошло не три года, а меньше трёх дней с тех пор, как он коснулся отцовского Камня. Он привык терпеть боль, но меч теперь лежал в руке иначе, и движения невольно замедлялись, да ещё постоянно требовали чистки перчатки.
Младшие не спрашивают о его причуде с перчаткой, и то хорошо. Младшие злятся на него за то, что все ещё не смог заполучить Камень, за то, что молчит и ничего не объясняет, от злости пропадают на охоте, сколько могут — пусть их. Руссандол не собирался им ничего объяснять. Вот только каждый раз, снимая повязки по вечерам и глядя на незаживающий ожог, он невольно видел огромные, обугленные ладони хозяина Ангбанда.
Ожоги не перевязывают для лечения - но когда нужна рука, повязки хоть оберегают ее... И перчатку изнутри отчасти.
Все равно ничего не меняется.
Зажили бесследно раны, полученные в Дориате. Сошли уже шрамы, принесенные из Битвы Бессчетных Слез. Давным-давно сошла даже большая часть шрамов из Ангбанда, кроме самых злых и глубоких. Но, кажется, пройдет ещё пятьсот лет — и этот ожог все так же будет сочиться кровью и слизью, как сочились ею Морготовы лапищи.
В последние недели Руссандол не раз ловил себя на смутном желании взять нож и срезать распроклятый ожог с себя, как гнилой бок с яблока — может, открытая рана тогда заживет по-настоящему. Вот только можно ли срезать вот так же с души Дориат? Что еще откромсать себе за то, что тебя отвергло наследие отца и благословение Валар?
В Дориате ему хотя бы казалось, что он прав. Теперь же твердо знал, что нет. Что, поддавшись на ярость Турко, уговоры Курво и ежедневную тяжесть на душе и совести, сделал непоправимое. И может статься, срежет он с себя эту непроходящую гниль – и на кровавом срезе она расцветет заново.
Он швырнул грязные повязки в камин, хотя должен был оставить на стуле, чтобы доверенный слуга забрал их и выстирал, не привлекая внимания. Но сейчас тряпки были ему отвратительны. И не только тряпки.
И за железной рукой он ухаживал куда тщательнее, чем за собой: натер тряпочкой до блеска и смазал льняным маслом. Он делал это постоянно, хотя брат в свое время и уверял его, что сложный сплав стали с драгоценным митрилом и другими добавками не поддается ржавчине, как и лучшие его клинки. Но Руссандол не хотел давать порче и на шаг подступиться к наследству Искусника.
Тело свое казалось ему куда более испорченным и отравленным. По ночам теперь порой болели шрамы на спине и на бедре от огненных плетей. Ныли суставы, ныли зажившие переломы, унесенные из сражений в Таргелионе. И привычно уже болело глубоко внутри, как в последние годы перед нападением на Дориат, все ярче и ярче.
Сильмарилл на Диоровом столе являлся ему ночь за ночью. Перед ним стояли седой Диор, его строгая дочь и его сыновья. А позади сыновей маячила тень, знакомая каждым очертанием, и привычно вскидывала голову, едва чувствовала взгляд Руссандола. Вот что я втравил нас всех, Турко-Турко…
Ужин, оставленный для него на столе под салфеткой, вызвал лишь досаду и смутное отвращение. Он проглотил через силу немного мяса и хлеба, отодвинул миску. Спохватился, когда поймал себя на постукивании по ладони узорным столовым ножом.
— Будет нелегко, — сказал он вслух, глядя на ненавистный ожог.
Амбаруссар первое время ловили его взгляды, ожидая приказа готовиться к выступлению на Сириомбар. Затем перестали. Мальчишки…
А сегодня что-то дрогнуло внутри. Раз за разом, сидя в этом кресле, он спрашивал себя, что станет с ними, если они выступят и в этот раз. Раз за разом он думал о том, что Макалаурэ и трое младших ему дороже всего деревянного города… А потом смотрел по ночам на тех, кого теперь освещал освобожденный Сильмарилл. Чьи руки он признал.
Даже Моргот не мешал ему размышлять. Казалось, Север затих, довольный полученной властью, и перестал всматриваться в тех, кто держался за южные земли. Орки почти не тревожили их этим летом. Так… удобно. Так свободно. Иди, сын Феанора, воюй за наследство.
Север ждет, сказал себе Руссандол в первый раз. Затаился и ждет, когда старший сын Феанора поведет выживших на Сириомбар.
И если он не поведет...
«Да. Будет нелегко».
*
Еще восемь лет спустя.
Макалаурэ выглянул из окна Комнаты Документов — отсюда внутренний двор был виден лучше всего. Внизу Майтимо и Халлан третью свечу времени гоняли друг друга из одного угла в другой. А Халлан опять впал в азарт и не следит, что время к полудню.
Впрочем, нет. Оруженосец, наконец, опустил щит и махнул тяжелым учебным мечом.
Прихватив с обеденного стола