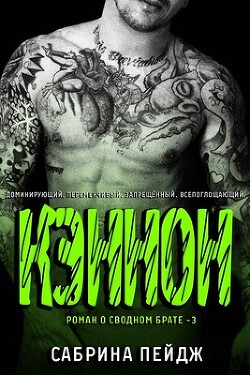Он бросил окурок, вдавил его подошвой ботинка в щебенку.
– Сама подумай, ну как я мог кому-то сказать? Как мог выставить себя на посмешище? – Он двинулся прочь. – Тогда вы все бы подумали, я просто псих ненормальный.
Дом номер четыре, Авеню
15 августа 1976 года
– Ты ведь знаешь, что в палату тебя не пустят? – спросил отец.
Я ответила, что да, знаю, поскольку мне говорили это уже раза четыре, если не больше.
– А все для того, чтобы Тилли не подхватила от тебя каких-нибудь микробов, – пояснил он. – Там должна быть стерильная чистота.
– Но я чистая, – сказала я.
– Суперчистая. – Он взял ключи от машины.
Мама стояла в дверях и барабанила пальцами по дереву.
– Придется пройти через все это, – сказала она.
Прежде я никогда не бывала в больнице, ну за исключением разве что одного раза – когда родилась, – но я решила, что это не считается. Это было длинное, похожее на змею здание на самой окраине города. И было видно, где к этой «змее» пристраивали новые корпуса, потому как все больше становилось людей неимущих, а их тоже надо было где-то лечить.
Пришлось припарковать машину довольно далеко от входа и идти пешком через всю автостоянку. Мама шла, зябко обхватив себя руками за плечи, папа затолкал свои мысли в карманы вместе с кулаками. И вот, наконец, мы добрались до главного коридора, но понятия не имели, куда двигаться дальше. Когда попадаешь в больницу, то очень просто, как мне кажется, отличить работающих здесь людей от других. На персонале мягкая обувь, и эти люди, когда бесшумно идут, всегда глядят прямо перед собой. А все остальные поглядывают на вывески, развешанные по всему коридору, смотрят на схемы, следуют за маленькими стрелками на полу, нанесенными краской.
– Сюда, – сказал отец, и мы прошли до конца очень длинного коридора. На стенах картины с цветами, на персонале уже абсолютно бесшумная обувь. В самом конце коридора располагалось детское отделение. На стене напротив входа красовалось изображение Тигры [45].
– Тилли наверняка все это не нравится, – сказала я. – Ей и Тигра никогда не нравился. Считает его слишком шумным.
Отец заговорил с медсестрой, сидевшей за столиком, та заглянула ему за плечо, увидела меня, улыбнулась, а потом кивнула.
Пока они болтали, я озиралась по сторонам. Тилли нигде не было видно.
Я думала, в детском отделении должно быть шумно. Я рассчитывала увидеть здесь разные игры, фломастеры и картинки для раскраски. Я думала, здесь стоит крик, как в школе во время перемены, но только вместо учителей врачи. Ничего подобного. Дети лежали на узеньких матрасиках, вплотную к койкам были придвинуты стулья для родителей, и спящие на них матери упирались руками в кроватки. Только одна маленькая девочка сидела за столом и что-то рисовала. А потом, когда она обернулась ко мне и улыбнулась, я увидела, что из носа у нее тянется пластиковая трубочка, изгибается и исчезает где-то за ухом.
Я подошла к маме и уткнулась лицом ей в ноги.
Она обняла меня за плечи и сказала:
– Так я и знала. – И сердито покосилась на отца.
Медсестра провела нас еще по одному коридору, мимо рисунков на стене, целого ряда больших раковин и стопок полотенец на металлических полках.
Я заметила, как отец взглянул на маму.
– Сюда, пожалуйста, – сказала медсестра. – Мамочка Тилли только что ушла в столовую.
Я сделала еще несколько шагов, догнала ее.
– Знаю, что мне не разрешат войти, – сказала я. – Но у меня есть подарок для Тилли.
Мы остановились у двери. На двери надпись крупными печатными буквами: «МОЙТЕ РУКИ!». Не надпись, а просто крик какой-то.
– Сюда ничего приносить нельзя, – сказала медсестра. – Риск инфекции.
– Но это очень важно, – произнесла я высоким дрожащим голосом.
– Возможно, – начал отец, – вы передадите подарок Тилли, когда ей станет лучше?
Я видела, как посмотрела медсестра на отца.
– Ладно, – сказала она, не отрывая от него глаз. – Так и сделаем.
Я протянула сверток ей, она сунула его в карман халата.
По одну сторону двери находилось большое окно, и шторка на нем была отдернута. Но располагалось оно очень высоко, и тогда папа приподнял меня, чтоб я могла заглянуть внутрь.
Свет в палате не горел, и поначалу я не могла ничего разобрать. Видела только край кровати и угол раковины, все остальное тонуло в темноте. И лишь когда глаза мои с ней освоились, я начала различать и другие предметы, а затем поняла, что смотрю прямо на Тилли.
Очков на ней не было, резинок для волос тоже, и она выглядела очень худенькой и бледной. Просто утопала в кровати. Голова была слишком маленькая в сравнении с подушками, а пальцы сжимали края одеяла, точно она изо всех сил старалась уцепиться за ускользающий от нее мир.
Лежала она с закрытыми глазами, но я все равно помахала ей рукой. Махала все сильнее и сильнее – казалось, если махать сильно, она почувствует это и откроет глаза.
А потом я окликнула ее по имени.
– Не надо кричать, Грейс, – попросил папа.
Я снова крикнула. А потом – еще и еще.
– Проснись, – кричала я. – Просыпайся, просыпайся! Ну, давай!
– Грейс! – Отец опустил меня на пол. – Это больница, здесь нельзя кричать! – Он уже сам кричал на меня.
– Это не Тилли! – воскликнула я. – Если б это была Тилли, она бы сразу поняла, что я здесь, и проснулась.
Медсестра присела рядом со мной на корточки.
– Она очень слабенькая, Грейс. Слишком слаба и потому все время спит и никак не может сейчас проснуться.
– Черт, да с чего это вы взяли? – крикнула я.
Выпрямилась и побежала. Пробежала мимо картин, раковин и полотенец, мама с папой устремились следом за мной, и вот мы снова оказались в большом коридоре.
– Тилли просто не может исчезнуть, – кричала я. – Вы не должны позволить, чтоб Тилли исчезла!
Мама остановилась. Я слышала ее голос за спиной, он эхом разносился по коридору.
– Я же говорила, что это плохая идея, Дерек! – кричала она. – Я, черт возьми, сразу тебе сказала!
И все скользившие в бесшумной обуви люди останавливались и оборачивались на нас.
Дренажная труба
15 августа 1976 года
Я сидела на щебенке прямо перед Иисусом.
Едва мы вернулись домой, как я снова выбежала на улицу. Мама хотела, чтобы я осталась, но папа сказал, что сейчас меня лучше не трогать, «пусть ребенок выпустит пары».
Я не совсем понимала, что за пары я должна выпустить, но почему-то подумала, мне станет легче, если я увижу Иисуса. И вот я говорила с Ним уже минут десять, но никакой разницы не чувствовала.
Мистер Форбс забрал все складные стулья и карточный столик, и единственным предметом, напоминавшим о наших здесь посиделках, была домашняя туфля Шейлы Дейкин, прислоненная к дальней стене гаража.
Я смотрела на Иисуса.
– Почему Ты заставляешь Тилли исчезнуть? – спросила я.
Он молча взирал на меня в ответ креозотными глазами.
– А я-то думала, если найду тебя, то все мы будем в безопасности. Думала, раз ты здесь, и все мы, остальные, тоже никуда не денемся.
Полуденное солнце поднималось по стене гаража. Прокатилось над Иисусом и дренажной трубой, поднялось к самому верху стены, где вдруг высветило паука, ткущего и раскидывающего паутину.
Тилли обожала пауков. Говорила, что они очень умные, терпеливые и нежные. Она не понимала, почему все люди так их боятся, и мне бы очень хотелось, чтобы она увидела сейчас этого паука. Но Тилли здесь не было.
Здесь была только пустота, огромный пробел в моей жизни, который прежде заполняла Тилли.
А Иисус просто наблюдал. Контуры его начали размываться, очертания лица крошились и становились все более невнятными.