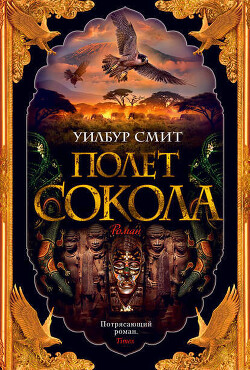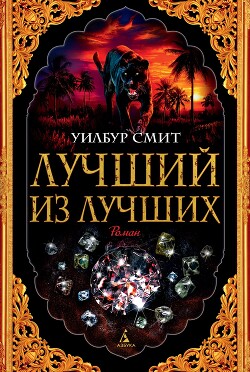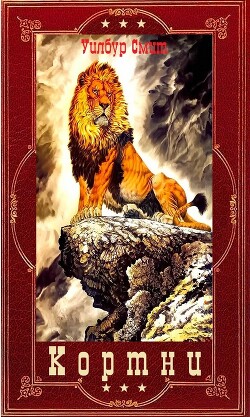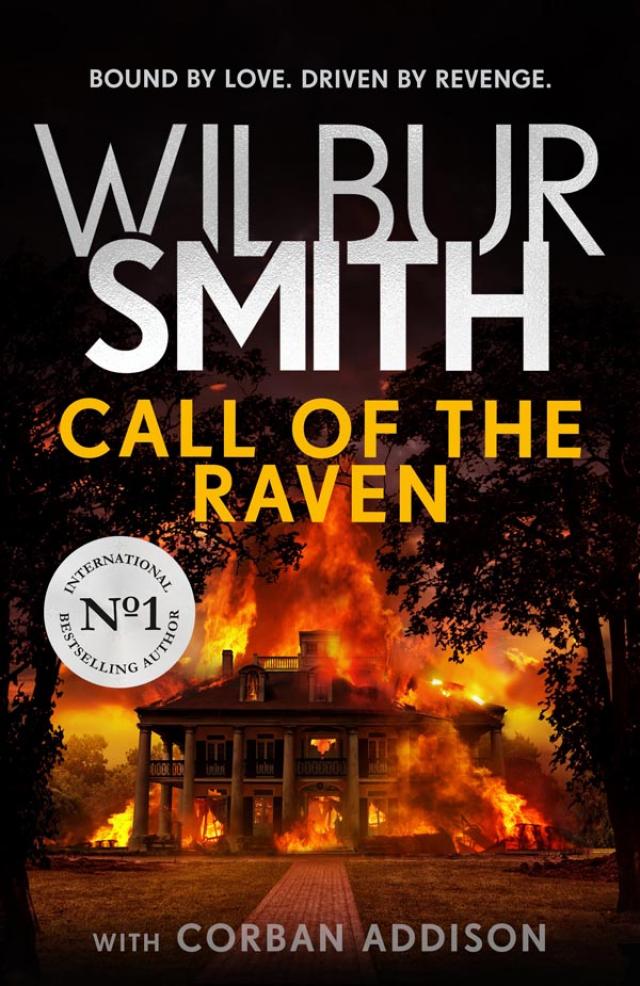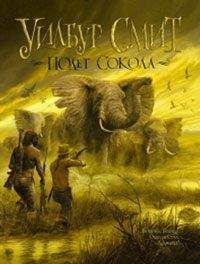Робин сменила повязку и влила в пересохшие губы ложку теплой каломели, в которую добавила четыре грамма опийной настойки. Вскоре Клинтон погрузился в беспокойный сон.
— Еще сутки, и все, — прошептала доктор, глядя, как Клинтон мечется и что‑то бормочет. Такая знакомая картина! Вскоре гной, образуясь в груди вокруг пули, распространится по всему телу. Робин была бессильна. Ни одному хирургу пока не удавалось проникнуть в грудную клетку.
Пригнувшись в дверях, в каюту вошел Зуга, остановился за спиной сестры и ласково тронул за плечо.
— Ему лучше? — тихонько спросил он.
Робин покачала головой. Зуга кивнул, словно ждал такого ответа.
— Тебе нужно поесть. — Он протянул ей миску. — Гороховый суп с беконом, очень вкусно.
Она и не заметила, что сильно проголодалась, и с охотой принялась за еду, обмакивая в похлебку корабельный сухарь. Зуга тихо продолжал:
— Я заложил в заряд как можно меньше пороха. — Он с досадой покачал головой. — К тому же пуля Мунго ударилась о спусковую скобу и должна была потерять большую часть скорости. Однако же…
Робин подняла глаза от миски:
— Пуля отскочила? Ты мне не говорил.
Зуга пожал плечами:
— Теперь это не важно. Но она отклонилась.
После его ухода Робин минут десять сидела неподвижно, потом решительно подошла к койке, откинула одеяло, развязала повязку и снова осмотрела рану.
Она очень осторожно проверила ребра под раной, надавливая большим пальцем и прислушиваясь. Похоже, все ребра целы… однако пуля могла пройти между ними. Робин осторожно нажала на опухоль — больной слабо дернулся. На этот раз почувствовался еле слышный скрежет: возможно, ребро задето или даже расщеплено в длину.
Дрожа от волнения, она продолжила осмотр, медленно продвигаясь к спине и прислушиваясь к стонам спящего. Когда дело дошло до области под лопаткой, Клинтон с диким криком подскочил на койке, лицо его покрылось потом. Однако Робин удалось ощутить под пальцем что‑то твердое, но не кость и не напряженную мышцу.
У Робин заколотилось сердце. Клинтон стоял вполоборота к Мунго, и пуля могла пройти совсем по‑другому. Вполне возможно, ей не хватило силы, чтобы проникнуть в грудную клетку, и она, отразившись от кости, прошла под кожей вдоль ребер и застряла в толще спинных мышц, между широчайшей latissimus dorsi и большой круглой tenes major.
Доктор отошла от койки. Возможно, она и ошибается, но тогда Клинтон все равно умрет, и очень скоро…
— Попробую! — решила она. Через световой люк в каюте светило солнце, хорошего дневного света оставалось еще на час или два. — Зуга! — позвала Робин, открыв дверь. — Зуга! Иди сюда, скорее!
Прежде чем переносить больного, Робин дала ему еще пять граммов опия. Больше давать было нельзя, в предшествующие тридцать шесть часов он уже принял пятнадцать граммов. Дневной свет угасал, но пришлось подождать, пока лекарство начнет действовать. Лейтенант Денхэм получил приказ убавить паруса, сбросить обороты винта и вести корабль как можно тише.
Зуга выбрал из команды двоих помощников: седого крепыша боцмана и стюарда из кают‑компании, показавшегося Робин достаточно спокойным и сдержанным. Втроем они приподняли раненого и перевернули на бок. Стюард расстелил на койке чистую белую парусину, чтобы собирать стекающую кровь, а Зуга быстро связал веревкой запястья и лодыжки Клинтона. Он предпочел мягкую веревку из хлопка, так как грубая пенька могла повредить кожу, и завязал ее специальным морским узлом, который не ослабевает при натяжении. Боцман помог ему закрепить концы веревки на раме койки. Почти обнаженное растянутое тело больного напомнило Робин картину в кабинете дяди Уильяма в Кингс‑Линне, на которой римские легионеры привязывали Иисуса к кресту перед тем, как вбить гвозди. Она раздраженно встряхнула головой, отгоняя воспоминание, и сосредоточилась на предстоящей задаче.
— Вымой руки! — велела она Зуге, указывая на ведро с горячей водой и желтый щелок, выданный стюардом.
— Зачем?
— Вымой! — повторила она; сейчас было не до объяснений. Ее руки уже порозовели от горячей воды и чесались от грубого мыла. Салфеткой, смоченной в кружке с крепким корабельным ромом, она протерла инструменты и разложила их на полке над койкой. Затем той же салфеткой протерла пышущую жаром бледную кожу раненого под лопаткой. Он дернулся, пытаясь высвободиться, и невнятно запротестовал. Робин кивнула боцману.
Тот слегка запрокинул голову капитана и всунул между зубами туго свернутый кусок фетра, из которого делались пыжи для пушек.
— Зуга!
Брат крепко взял Клинтона за плечи, не давая перевернуться на живот.
— Хорошо.
Робин взяла с полки острый как бритва скальпель и стала пальцем нащупывать место, где обнаружила твердое инородное тело.
Клинтон выгнулся дугой, испустив отчаянный крик, приглушенный фетром, но на этот раз Робин ясно ощутила посторонний предмет в опухшей плоти.
Ловко и решительно действуя скальпелем, она сделала первый разрез вдоль мышечных волокон, а затем, рассекая ткани слой за слоем и рукояткой скальпеля раздвигая синеватые пленки, стала продвигаться вглубь, туда, где ощущался твердый комок.
Клинтон бился и корчился, натягивая веревку, из груди рвался хрип, губы покрылись белой пеной, на челюстях, сжимавших толстый фетр, вздулись желваки. Его отчаянные рывки сильно мешали Робин, ее окровавленные пальцы скользили в горячей плоти, но ей удалось нащупать боковую грудную артерию, похожую на резиновую пульсирующую змею, и осторожно обойти. Более мелкие сосуды она пережимала щипцами и перевязывала кетгутом, разрываясь между необходимостью действовать быстрее и опасением усугубить положение. Она на мгновение остановилась и кончиком указательного пальца нащупала твердый комок.
По лицу Робин стекал пот. Мужчины, которые держали Кодрингтона, напряженно наблюдали за ее работой.
Она ввела скальпель в открытую рану и сделала надрез. Из‑под пальцев выплеснулся желтый фонтан, крошечную жаркую каюту заполнил тошнотворный запах разложения. Выброс гноя длился всего секунду, потом в ране показался какой‑то черный предмет, пропитанный кровью. Робин вытащила его пинцетом, следом выплеснулась еще одна волна темно‑желтой жидкости.
Робин испытала прилив облегчения — она оказалась права. Пуля загнала кусок войлока глубоко в мышечную ткань. Доктор поспешно продолжила работу, глубоко проникая пальцем в пулевой ход.
— Вот она!
С момента первого надреза Робин впервые нарушила молчание. Свинцовый шарик был тяжелым и скользким, его никак не удавалось вытащить. Пришлось сделать еще один надрез, и лишь тогда она наложила на него костяной пинцет. Ткани, словно не желая расставаться с пулей, глухо чмокнули. Шарик тяжело стукнулся о деревянную полку. Робин еще некоторое время тщательно зондировала рану, подавив желание немедленно зашить и перевязать ее. Усилия доктора были вознаграждены — там оказался еще один гниющий кусок материи.
— Клочок рубашки. — Робин продемонстрировала белые обрывки, пропитанные гноем, и лицо Зуги исказилось от отвращения. — Теперь можно заканчивать, — удовлетворенно произнесла она и принялась зашивать рану.
Для оттока последнего гноя Робин оставила в ране торчащий катетер и закрепила его стежками. Наконец она выпрямилась, весьма довольная своей работой. В больнице Сент‑Мэтью никто не умел так ровно и аккуратно накладывать швы, даже старшие хирурги.
Клинтон лежал без сознания, его тело блестело от пота, веревки содрали кожу с запястий и щиколоток.
— Развяжите его, — тихо сказала Робин. Ее охватила гордость, словно теперь, вытащив больного из лап смерти, она получила его в собственность, словно он был ее личным творением. Гордыня — чувство греховное, но гордиться было так приятно, а в нынешних обстоятельствах она вполне заслужила удовольствие слегка согрешить.
Выздоровление Клинтона было почти чудесным. На следующее утро он полностью пришел в себя. Лихорадка утихла, оставив его бледным и слабым, однако сил вполне хватило на ожесточенный спор, когда Робин велела вынести его на солнце и укрыть от ветра за парусиновой ширмой на корме.