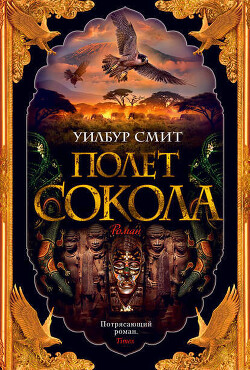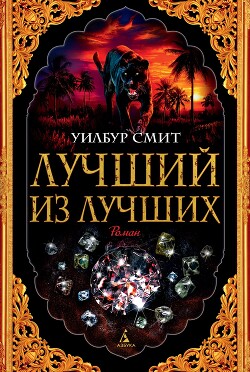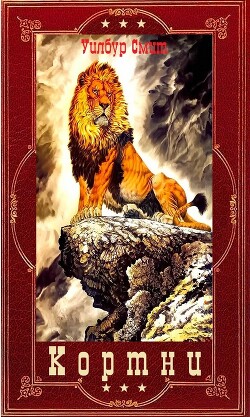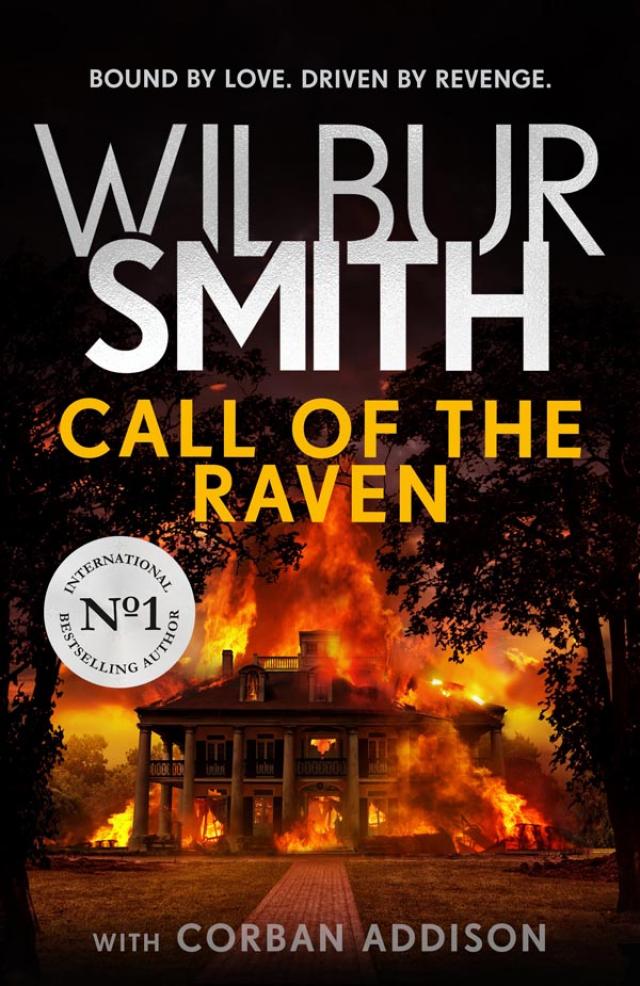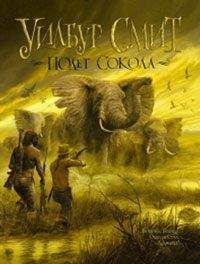Допрос длился еще минут десять. Камачо взялся было за плеть из шкуры гиппопотама, чтобы освежить память старика, но Зуга сердитым жестом остановил его. Было ясно, что от старика больше ничего не добиться.
— Выдать ему рулон меркани, один хете бус и отпустить, — приказал майор.
Старик принялся корчиться, изливаясь в благодарностях, на него было жалко смотреть.
Зуга и Робин дольше обычного просидели у лагерного костра, пока тот догорал, изредка выбрасывая снопы искр. Сонное бормотание голосов в хижинах носильщиков постепенно сменилось тишиной.
— Если мы двинемся на север, — вслух размышляла Робин, — то попадем в оплот работорговли, к озеру Малави, — туда, где не ступала нога белого человека, где не бывал даже отец… откуда течет поток рабов на рынки Занзибара и Омана.
— А как же юг? — Зуга посмотрел через поляну на неподвижный силуэт Джубы, терпеливо ожидавшей у входа в палатку Робин. — Эта девушка — живое подтверждение рабства к югу от Замбези.
— Да, но это ничто по сравнению с тем, что творится на севере.
— Торговля в тех местах подробно описана. Пятнадцать лет назад отец дошел до Малави и спустился к побережью с невольничьим караваном, а Баннерман прислал дюжину докладов о занзибарском рынке, — напомнил Зуга, вглядываясь в пепел костра и согревая в руках стаканчик драгоценного виски из быстро идущих на убыль запасов. — А о торговле с матабеле к югу отсюда не знает никто.
— Да, пожалуй, — неохотно признала Робин, — однако отец писал в «Путешествиях миссионера», что Луалаба — исток Нила и он когда‑нибудь это докажет, пройдя по реке от самых верховий. Кроме того, старик видел его на севере.
— Да неужели? — усмехнулся Зуга.
— Но старик…
— Лгал. Кто‑то его подучил, и не нужно долго гадать кто.
— Откуда ты знаешь? — спросила Робин.
— Поживешь с мое в Индии, начнешь угадывать ложь, — улыбнулся брат. — Да и с чего бы отцу ждать целых восемь лет, прежде чем идти по Луалабе? Если бы он вправду выбрал север, то оказался бы там сразу.
— Ах, братец, — язвительно фыркнула Робин, — уж не легенда ли о Мономотапе заставляет тебя так упорно стремиться на юг? Не блеск ли золота застилает тебе глаза?
— Что за низкая мысль! — хищно усмехнулся Зуга. — Что меня в самом деле ставит в тупик, так это усердие, с которым великий первопроходец Камачо Перейра толкает нас на север…
Робин ушла, и свет в ее палатке погас, а Зуга еще долго сидел у костра со стаканом в руке, глядя в тлеющие угли. Наконец он решительно встал, опрокинул в рот последние капли спиртного и зашагал к палатке португальца, которая стояла последней в ряду.
Было совсем поздно, но внутри еще горел фонарь. Зуга позвал — в палатке взвизгнула женщина, в ответ что‑то прорычал мужской голос. Камачо Перейра, голый, с накинутым на плечи одеялом, откинул полог и осторожно выглянул. В руке он держал пистолет и, лишь узнав майора, неохотно опустил оружие.
— Мы пойдем на север, — грубо бросил Зуга, — вверх по Шире к озеру Малави и дальше по Луалабе.
Лицо Камачо осветилось улыбкой, как полная луна.
— Очень хорошо! Очень хорошо! Много слоновой кости, найдем вашего отца — увидите, совсем скоро найдем!
К полудню следующего дня португалец, покрикивая и щелкая плетью, пригнал в лагерь сотню сильных здоровых мужчин.
— Носильщики! — гордо подбоченясь, провозгласил он. — Много носильщиков — чертовски здорово, да?
На следующий день Робин снова пришла в акациевый лес. Христианка Сара дожидалась ее у могилы.
Малыш первым увидел Робин и подбежал с радостным смехом. Доктор снова удивленно вгляделась в темнокожее личико. Глаза и линия подбородка были настолько знакомы, что она застыла на месте, пытаясь вспомнить, кого же он напоминает. Мальчик взял ее за руку и потянул к матери.
Ритуал замены цветов на могиле повторился, затем женщины сели бок о бок на ствол упавшей акации. В тени было прохладнее, в ветвях над головой охотилась на зеленых гусениц парочка красногрудых сорокопутов. Перья их отливали ярко‑алым, как кровь умирающего гладиатора. Тихо беседуя с Сарой, Робин увлеченно наблюдала за птичками.
Сара рассказывала о Хелен Баллантайн, какой храброй она была и никогда не жаловалась на удушающую жару Кабора‑Басса, где черные скалы, накаленные солнцем, превращали ущелье в настоящее пекло.
— Плохое время, — пояснила Сара, — самая большая жара перед приходом дождей.
Робин вспомнила дневник отца, в котором тот возлагал вину за промедление на своих подчиненных, старого Харкнесса и капитана Стоуна, из‑за которых экспедиция упустила прохладный сезон и достигла ущелья лишь в убийственно жарком ноябре.
— Потом пришли дожди, и с ними лихорадка, — продолжала Сара. — Очень плохо. Белые люди и ваша мать сразу заболели, и даже сам Манали, прежде я не видела его больным. Злые духи владели им много дней. — Малярийный бред, очень точное описание, подумала Робин. — Он не знал, когда умерла ваша мать.
Снова наступило молчание. Мальчик, которому наскучила нескончаемая беседа женщин, запустил камушком в птиц, щебетавших в ветвях акации. Сверкнув ослепительно алыми грудками, сорокопуты упорхнули к реке. Робин снова бросила взгляд на детское личико — казалось, она знала его всю жизнь.
— Моя мать? — переспросила Робин, не спуская глаз мальчика.
— Ее вода стала черной, — кивнула Сара.
От этих слов у Робин мороз пробежал по коже. Иногда тропическая малярия меняет свое течение и атакует почки, превращая их в хрупкие мешочки со свернувшейся темной кровью, которые лопаются при малейшем движении. При черноводной лихорадке моча больного становится темно‑фиолетовой и густой, и редко, очень редко, кто после этого выживает.
— Она была сильной, — тихо продолжала Сара, — и ушла последней. — Африканка оглянулась на остальные могилы. Простые холмики укрывал толстый слой завитых стручков акации. — Мы похоронили ее здесь, когда злые духи еще владели Манали. Потом, когда он встал, то пришел сюда с Книгой и сказал слова. Он сам поставил крест.
— А потом снова ушел?
— Нет, Манали был очень болен, им опять овладели духи. Он плакал о вашей матери. — Мысль о плачущем отце была настолько дикой, что Робин не могла себе этого представить. — Все время говорил, что река его погубила.
Обе женщины взглянули на заросли акации, сквозь которые просвечивала широкая гладь зеленой воды.
— Манали стал ненавидеть реку, будто она живая и стоит на его пути. Он был совсем безумный, лихорадка не оставляла его. Иногда он сражался со злыми духами, кричал и вызывал их на бой, как великий воин, который танцует гийя перед строем врагов. Еще говорил о машинах, которые укротят реку, о стенах, которые он построит поперек потока, чтобы корабли шли над ущельем…
Сара смолкла, воспоминания затуманили ее круглое, как луна, лицо. Почувствовав грусть матери, мальчик, подбежал и положил запыленную головку к ней на колени. Она рассеянно гладила плотную кудрявую шапку волос.
Робин вздрогнула — узнавание пришло внезапно, как удар. Сара проследила за ее взглядом, потом снова взглянула белой женщине в глаза. Слова были не нужны, вопрос был задан, и ответ получен. Сара притянула малыша к себе, словно защищая.
— Это было потом, когда ваша мать… — пробормотала Сара и снова смолкла.
Робин продолжала разглядывать мальчика. Перед ней был Зуга в детстве, маленький черный Зуга. Только цвет кожи помешал разглядеть это сразу.
Земля под ногами качнулась — и стала на место. Робин внезапно почувствовала странное облегчение. Фуллер Баллантайн больше не был величественным идолом, вытесанным из гранита, который омрачал всю ее жизнь.
Она протянула к мальчику руки, и тот подошел, доверчиво, без колебаний. Робин обняла его и поцеловала, детская кожа была гладкой и теплой. Душу наполнила волна любви и благодарности.
— Он был очень болен, — тихо произнесла Сара, — и совсем один… Все ушли или умерли, он так горевал, что я боялась за его жизнь.
Робин понимающе кивнула.