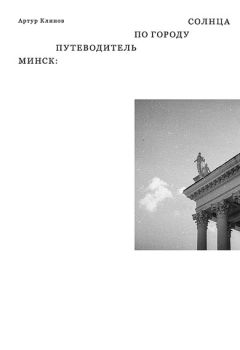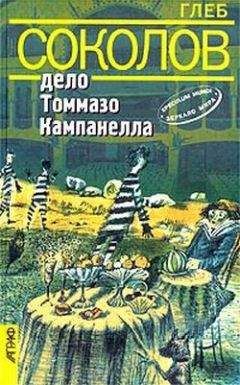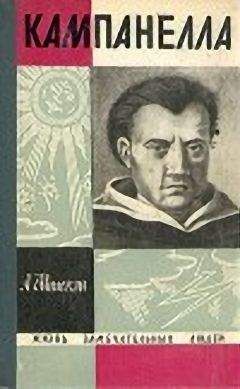Ознакомительная версия.
25
В пролетарские предместья Города Солнца я выбирался редко. Обычно мы отправлялись туда с матерью на могилу бабушки, которую похоронили на Чижовском кладбище – гигантском некрополе, начинавшемся сразу за предместьями и на километры уходившем в золотые ржаные поля, подступавшие к самой границе Города. Дорога до него была неблизкая и занимала, как мне казалось, половину дня. Я не любил это путешествие, тем более что пролегало оно через районы, в которых я находил что-то угрюмое, особенно в солнечный день, когда они наполнялись жесткими злыми тенями. Пасмурный день накрывал их серой фланелью, под которой они немного добрели, становились просто унылыми окраинами, в безнадежности которых даже появлялось какое-то странное очарование. Мы выезжали утром со Сторожовки в трамвае, что останавливался на другой стороне Птичьего рынка. Через пару остановок он делал кольцо, поэтому, когда вагон подъезжал, был практически пуст. Я усаживался у окна с правой стороны, чтобы лучше видеть людей на перронах. Двери дребезжа закрывались, и мы отправлялись в наш неблизкий путь до некрополя. Вначале трамвай пересекал небольшую треугольную площадь, застроенную странными деревянными домами, немного напоминавшими мне постройки из вестернов. Их фасады плотно примыкали один к другому, обращаясь к улице кричащими воззваниями вывесок. Тут имелся свой салун – маленькая пивная, булочная, гастроном. Чуть дальше на возвышении стоял кинотеатр. За площадью начиналось старое, тогда еще не раскопанное нами кладбище с высокими дубами и серым домом без окон с мерцающими цилиндрами на деревянных полках. Миновав несколько остановок, трамвай выбирался на улицу, ведущую к проспекту. Вагон был старой конструкции, поэтому ехал неспешно. На улице уже стояла жара, во время движения через маленькие, раздвинутые с двух сторон форточки в него проскальзывал поток горячего, но все же освежающего ветерка. Когда же трамвай останавливался и забирал пассажиров, поток прекращался. Тогда в вагоне зависало влажное потное ожидание. Через какое-то время за окном начинали появляться капители и лепные карнизы. Мы въезжали в город дворцов. Чем ближе трамвай приближался к проспекту, тем капителей с карнизами становилось больше. Они набирали объем, и вскоре вагон уже ехал среди огромных бисквитных тортов, пекшихся на утреннем, но уже обжигающем солнце. Торты стояли так плотно один к одному, что, казалось, к полудню, когда зной наберет максимум силы, их разгоряченные кремовые розетки, медальоны и консоли под балконами потекут по фасадам и все превратится в одну большую бесформенную бисквитную массу. Над бисквитами в синеве неба проплывали большие куски сахарной ваты, тоже готовые к вечеру растаять и сладким дождем опуститься на Город.
Улица Октябрьская
Недалеко от площади Виктории улица перпендикулярно пересекала проспект. Трамвай проезжал кинотеатр с загадочным названием «Мир», миновал «Дворец Искусств» и – на развилке возле Академии госбезопасности – уходил левей, к улице, шедшей к предместьям. Вагон проезжал еще одно старое военное кладбище, желтый с массивными колоннами Дворец культуры Стройтреста и двигался по направлению к Тракторному заводу. Бисквиты здесь становились скромнее. Капители с карнизами теряли объемы. К этому времени трамваи до отказа заполнялся людьми, которые с трудом втискивались на остановках, основательно утрамбовывая тех, кто стоял ближе к дверям. Вагон уже больше напоминал небольшую парную, двигавшуюся по рельсам Города Солнца. Спустя немного дворцы за окнами начинали исчезать и появлялись первые фабричные цеха. Мы въезжали на длинный безлюдный мост через железную дорогу и сразу за ней попадали в район Тракторного завода. Это был целый город, напоминавший уменьшенную копию Города Солнца. На Тракторном работали десятки тысяч людей, которые жили в этих кварталах. Тут также стояли дворцы для народа, но они были пониже, чем в Городе Солнца. Здесь тоже имелся свой стадион, Дворец культуры, гастрономы, пивные, большой парк с чертовым колесом. У главного входа на завод стояли две симметричные башни, напоминавшие пирамиды с площади Ворот. За парком трамвай пересекал широкую улицу – Партизанский проспект. Здесь мы покидали парную на рельсах, пересаживались на автобус и ехали по улице, проходившей через кварталы гигантского Автозавода. Здесь тоже работали десятки тысяч людей. Здесь также был свой Дворец культуры и свои парки, но как раз тут начинались те безнадежно угрюмые районы. Здешний проспект походил на широкую, вытянутую на много километров площадь. Вдоль нее стояли такие же, как в Городе Солнца, деревья. Над ней висело все то же кобальтовое небо с белыми канелюрами и конскими головами. Но вместо дворцов по сторонам этой площади стояли казармы, вернее дома, похожие на них, и тени, падавшие от этих казарм, были особо зловещи. Нас окружали похожие пяти– и девятиэтажные дома, фасады которых пробивали одинаковые квадратные глазницы окон. Квадраты чередовались с вертикалями застекленных жильцами балконов. Каждый балкон отличался цветом и бесхитростным материалом. Но вместе они походили на стайки маленьких стеклянных сарайчиков, которые по крышам друг друга карабкались к последним этажам здания. Между кварталами тянулись длинные заводские цеха с высокими кирпичными трубами и пирамидками стеклянных фонарей на крышах. Иногда их разделяли пустыри, через которые один за другим в сторону Города Солнца шли двух– и шестипалые металлические великаны вышек, волокших в Город на вытянутых руках линии высоковольтных передач. Вскоре автобус поворачивал направо, и мы двигались в направлении Чижовки. Перед въездом в нее мы пересекали еще один парк с озером и ехали до здешнего Дворца культуры, где надо было сделать еще одну пересадку. Тут мы перебирались в автобус, шедший прямо к некрополю. Через остановку он выезжал на дорогу, с которой уже виднелась монументальная арка его ворот, одиноко возвышавшаяся в глубине золотого поля, тихо шелестевшего набухающими колосьями. Поле уходило далеко к горизонту и где-то там дотрагивалось до неба, по которому медленно плыли куски пока еще не растаявшей сахарной ваты.
XX век начался для страны новым потопом. Беларусь становится театром военных действий Восточного фронта Первой мировой. Затем пришла Революция, Гражданская война, война советской России с Польшей. Подсчитать точное количество потерь невозможно. Только число людей, силой высланных в Сибирь, составило миллион человек. В тридцатые годы, убравшись в наряды страны Счастья, Империя продолжила вычищать эти земли от городов и народов. Ей не нужно было уже прикрываться попами и рассуждениями о высокой духовности ее миссии. Теперь она могла оживить «Капричос» Гойи, создать гигантские макабрические полотна, используя только два цвета: черный – земли и темно-бурый – застывающей крови. В тридцатых по обвинению в национализме Сталин вырезал почти всю белорусскую интеллигенцию. Из состава Союза писателей к началу сороковых годов в живых осталось всего двенадцать человек. Одновременно шли массовые убийства простых граждан – в 1937 году в Беларуси было расстреляно сто тысяч человек. Продолжалось переселение в Сибирь кулаков, националистов, религиозных сектантов «и прочих враждебных элементов». Число жертв этих лет огромно. Только в урочище Куропаты под Минском было истреблено от ста до двухсот пятидесяти тысяч человек. В сороковых годах эти земли накрыла последняя большая война. Она длилась четыре года и унесла жизнь еще каждого четвертого ее жителя.
Был ли счастлив я в обществе Счастья, не помню. Скорее всего, нет. Как и каждого маленького человека, меня окружали свои маленькие проблемы, страхи и неисполненные желания, которые, наверно, не давали ощутить себя до конца счастливым. Но то, что мы живем в самом счастливом обществе, я знал абсолютно точно. Это знали все дети Города Солнца. Я помню, как мы сочувствовали детям, живущим в страшном капиталистическом мире. Я помню веселые пионерские песни, которые доносились из нашей радиоточки солнечными весенними днями – а солнца весной в Городе Солнца всегда было много, – и тот странный фильм, который я увидел в какой-то тусклый зимний день. Я чем-то болел, поэтому не пошел в школу. Как и всем детям, мне нравилось болеть. У меня даже имелось любимое занятие: я устраивался в кресле у окна нашей теплой кухни и рассматривал путеводитель по Ленинграду. Это была книга с очень подробными аксонометрическими планами. Мне нравилось белыми зимними днями в полуболезненном состоянии гулять по этой аксонометрии среди воображаемых зимних, таврических, Михайловских и других ленинградских дворцов. В этот день по нашему черно-белому телевизору я увидел фильм о собаке, у которой умер хозяин – небольшую новеллу, показанную тогда, когда большинство людей было на работе. Обычно такие странные фильмы крутили в то время, когда их почти никто не мог увидеть. В ней не было какого-то замысловатого сюжета. Старый одинокий человек умирает, приходят врачи, какие-то незнакомые люди, они что-то делают. Пес за всем наблюдает. Он сидит у тела. Ночь. Горит лампа. На следующих кадрах пронзительный черно-белый зимний день. Небольшая траурная процессия направляется на кладбище. Пес идет по снегу за гробом. Старика закапывают. Люди расходятся. Пес остается один. Через какое-то время он возвращается домой, а дома больше нет. Дверь закрыта, и никто не откроет ее. Мне запомнилось странное ощущение от этого фильма. Болезненный пасмурный день за окном и грустная черно-белая сага о старике и собаке, которая жила в стране Счастья, но в один зимний день собачье счастье закончилось.
Ознакомительная версия.