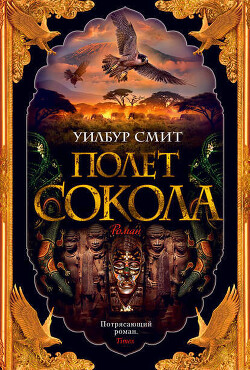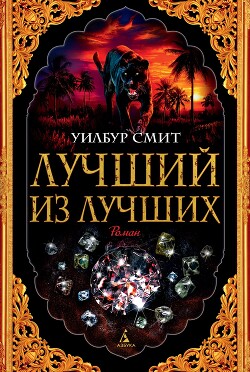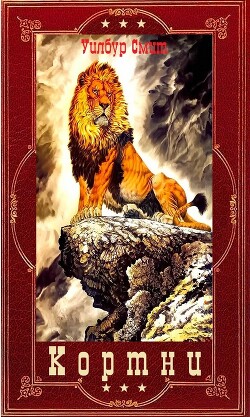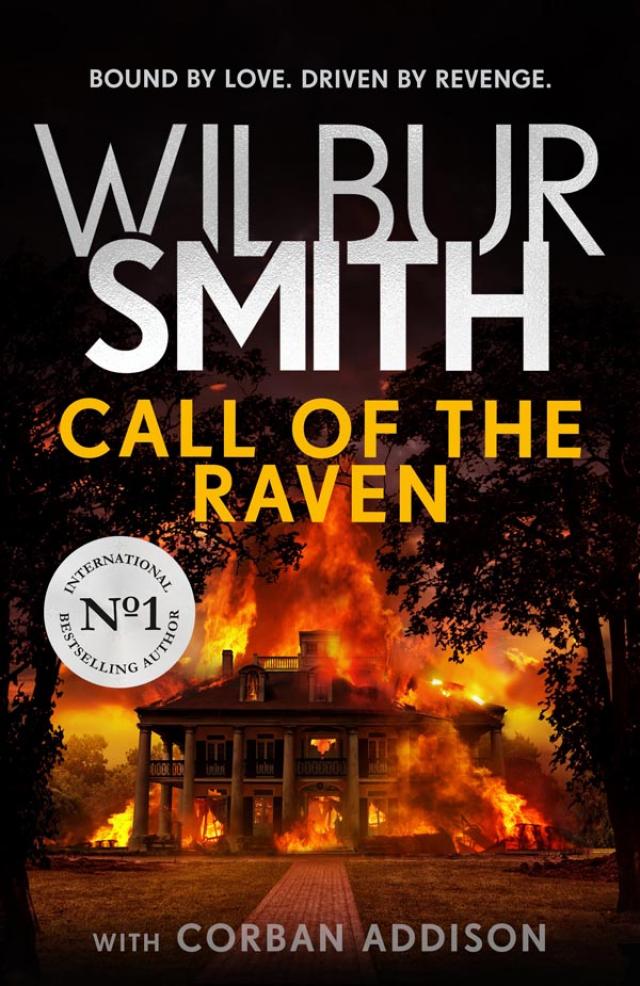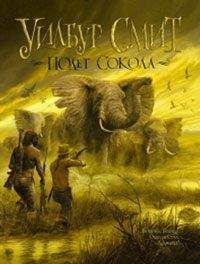За десять дней, прошедших после расчистки храмового двора, экспедиция собрала по крупинкам более полусотни фунтов золота. Они распотрошили всю площадку, избороздив и перекопав землю, словно в ней рылась стая диких кабанов.
Покончив с двором, Зуга переключился на башни‑близнецы. Он измерил их основание, составившее в окружности больше ста шагов, и тщательно обследовал каждый стык каменной кладки в поисках потайного входа, а не найдя ничего, соорудил из срубленных деревьев и коры шаткую лестницу и, рискуя сломать шею, забрался на вершину одной из башен. Внизу расстилался заросший густым кустарником лабиринт открытых сверху переулков и двориков древнего города.
Майор внимательно обследовал крышу, однако никаких признаков тайного отверстия не нашел и здесь. Казалось странным, что древний архитектор построил такое огромное сооружение без видимой пользы. Если наглухо запечатанная башня служила сокровищницей, внутри должно было быть тайное помещение. Перспектива вскрытия мощной каменной кладки ужасала даже неутомимого майора, а Черут заранее объявил подобные планы безумием. Однако раскопки двора больше ничего не приносили, а шансы отыскать что‑нибудь в других местах были слишком малы.
Небольшая команда под началом Мэтью с причитаниями взобралась по скрипучей лестнице и под наблюдением Зуги начала расшатывать каменные блоки на верхушке башни. Мастерство древних каменщиков внушало уважение — работа продвигалась с черепашьей скоростью, и за каждым ударом вывороченного булыжника о землю двора следовала долгая пауза. Лишь через три дня упорного труда в первом слое кладки удалось проделать неровное отверстие, однако дальше шел все тот же серый гранит.
Стоя на вершине башни, Ян Черут выразил все разочарование, наполнявшее душу майора:
— Мы зря теряем время, здесь только камень, и больше ничего. — Сержант сплюнул вниз, глядя, как капелька слюны падает на разоренный двор. — Лучше поищем место, откуда берется золото.
Зуга был настолько поглощен раскопками покинутого города, что не подумал о столь очевидной вещи. И в самом деле, где‑то за стенами должны находиться шахты!
— Мать не зря тебя любила, — усмехнулся он. — Ты не только красив, но и умен.
— Ja, — самодовольно кивнул Черут. — Все так говорят.
В этот момент тяжелая капля дождя упала майору на лоб и скатилась в левый глаз, на мгновение ослепив его. Капля была теплой, как кровь — кровь человека, терзаемого малярийной лихорадкой.
За пределами высоких стен обнаружились и другие руины, не идущие, правда, ни в какое сравнение с городом и совсем разбитые. Камни были разбросаны на большой площади и так густо заросли кустарником, что о подробном их исследовании в оставшееся время не могло быть и речи.
Гранитные холмы вокруг города были укреплены, однако население в них полностью отсутствовало. Пустые пещеры зияли, как глазницы черепа, внутри стоял запах леопардов и горных кроликов, их последних обитателей. Зуга сосредоточил усилия на поисках древних горных выработок, которые, по его представлениям, составляли основу исчезнувшей цивилизации. Его воображение рисовало глубокие штольни в склонах холма и горы пустой породы, как в древних оловянных шахтах Корнуолла, и он старательно прочесывал лесистую местность, проверяя каждую неровность почвы, каждую возвышенность, которая могла оказаться отвалом заброшенной выработки.
Ян Черут остался наблюдать за извлечением последних крупинок золота из почвы храмового двора, и люди облегченно вздохнули с приходом нового надсмотрщика, будучи едины с готтентотом во взглядах относительно значения черной работы в жизни воина и охотника.
Первые брызги дождя оказались лишь предупреждением и едва смочили рубашку Зуги, но предупреждение было серьезным, и майор понимал, что пренебрегает им на свой собственный страх и риск. Однако надежда отыскать золотоносную жилу была слишком сильна, и он тянул время, пока не забеспокоился даже Ян Черут.
— Если реки разольются, мы окажемся в ловушке, — предостерегал сержант, сидя у лагерного костра. — К тому же мы забрали все золото, самое время его тратить.
— Еще один день, — пообещал Зуга, забираясь под тонкое одеяло и устраиваясь поудобнее. — За южным хребтом есть еще долина, мне нужно только обследовать ее… Всего один день, послезавтра, — сонным голосом пообещал он.
Зуга учуял змею первым. В ноздри ударила сладковатая тошнотворная вонь, от которой перехватило дыхание, но он изо всех сил старался не закашляться, чтобы не привлечь внимание ядовитой твари. Пошевелиться он не мог — неимоверная темная тяжесть прижимала к земле, грозя переломать все ребра, а змеиный запах не давал вздохнуть.
Майор слегка повернул голову в ту сторону, откуда должна была появиться змея. Гадина скользнула к нему длинной извилистой лентой, виток за витком. Она подняла голову и остановила на человеке немигающий стеклянный взгляд, холодный и мертвенный. Меж изогнутых в ледяной улыбке тонких губ затрепетал, расплываясь темным облачком, раздвоенный язык. Чешуя мягко шелестела по земле, отливая тусклым металлическим блеском, как гладкая золотая фольга, вырытая из земли на храмовом дворе.
Зуга не мог ни шевельнуться, ни крикнуть, язык распух, заполнив весь рот и грозя удушьем. Змея проползла так близко, что, будь руки свободны, ее можно было бы коснуться. Блестящая чешуйчатая лента скользнула в круг мягкого мерцающего света, и тени расступились, очерчивая силуэты птиц, сидящих на высоких насестах. Золотистые глаза яростно сверкали, хищный изгиб желтого клюва вторил гордой линии красно‑коричневой крапчатой груди, длинные маховые перья прижимались к спине, как скрещенные лезвия.
Охотничьих птиц величиной с беркута украшали гирлянды цветов — алый «огонь короля Чаки» и девственно‑белоснежные лилии. На гордых шеях соколов красовались ожерелья и цепи из сияющего золота, а когтистые лапы обрамляла бахрома из перьев. Змея выползла на середину круга, и великолепные птицы тревожно зашевелились. Мерзкая тварь подняла блестящую голову с гребнем топорщащихся чешуек, и соколы сорвались с насестов. Ночь наполнилась грохочущим шумом крыльев, раздался пронзительный охотничий клич, похожий на траурные стенания.
Зуга в ужасе попытался прикрыть лицо. Огромные крылья пронеслись над ним, стая соколов взмыла в воздух, и близость змеи вдруг перестала его тревожить — главным было то, что соколы улетели. Душу охватило чувство обреченности, глубокой личной утраты. Майор широко разинул рот, вновь обретая дар речи, и закричал, призывая птиц вернуться. Он надрывно вопил, пытаясь перекрыть оглушительный шум крыльев, — до тех пор, пока крики слуг не вырвали его из ледяных тисков кошмара.
Над ночным лагерем вовсю бушевал ураган. Деревья гнулись и трещали, осыпая землю сорванной листвой и сломанными ветками. Холодный ветер пробирал до костей. Наспех построенные хижины лишились крыш, пепел костра разметало по всему лагерю. Тяжелые клубящиеся тучи неслись низко над землей, закрывая звезды, и лишь угли, вспыхнувшие от ветра ярким пламенем, освещали мрачную сцену.
Перекрикиваясь сквозь вой ветра, люди ползали по земле и собирали раскиданное снаряжение.
— Прикройте мешки с порохом! — рявкнул Зуга, успевший нацепить лишь рваные брюки. Босыми ногами он нашаривал сапоги. — Сержант! Эй, Черут!
Ответ готтентота потерялся в пушечном грохоте, разрывающем барабанные перепонки. Следом полыхнула ослепительная молния, ярко высветив незабываемую картину: Ян Черут в чем мать родила приплясывал на одной ноге, размахивая другой, к подошве которой прилип раскаленный уголек из разворошенного костра. Отчаянные проклятия тонули в раскатах грома, а искаженное лицо напоминало о химерах собора Нотр‑Дам. Затем снова обрушилась непроглядная тьма, и с неба хлынул дождь.
Ливень низринулся косыми, почти горизонтальными, потоками, словно лезвие косы, наполняя воздух водой, в которой люди захлебывались и кашляли, как утопающие. Свистящие струи хлестали по обнаженным телам, обжигая кожу, как заряд соли, выпущенный из дробовика. Трясясь от холода, люди прижимались друг к другу, судорожно натягивая на голову вымокшие меховые одеяла, которые источали запах мокрой псины. Так, сбившись в кучу под серебристыми струями дождя, они встретили холодную серую зарю. Налитое свинцовой тяжестью небо провисало, как брюхо беременной свиньи. Разметанные ветром останки лагеря по щиколотку залило водой, в которой плавало намокшее снаряжение. Навесы и хижины обрушились, лагерный костер превратился в черную лужу, и вновь развести его нечего было и думать. Пришлось оставить всякую надежду на горячую пищу или хоть малую толику тепла.