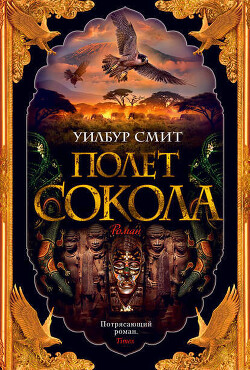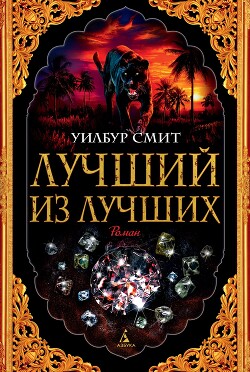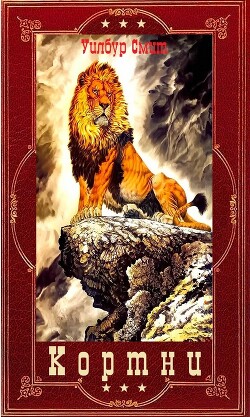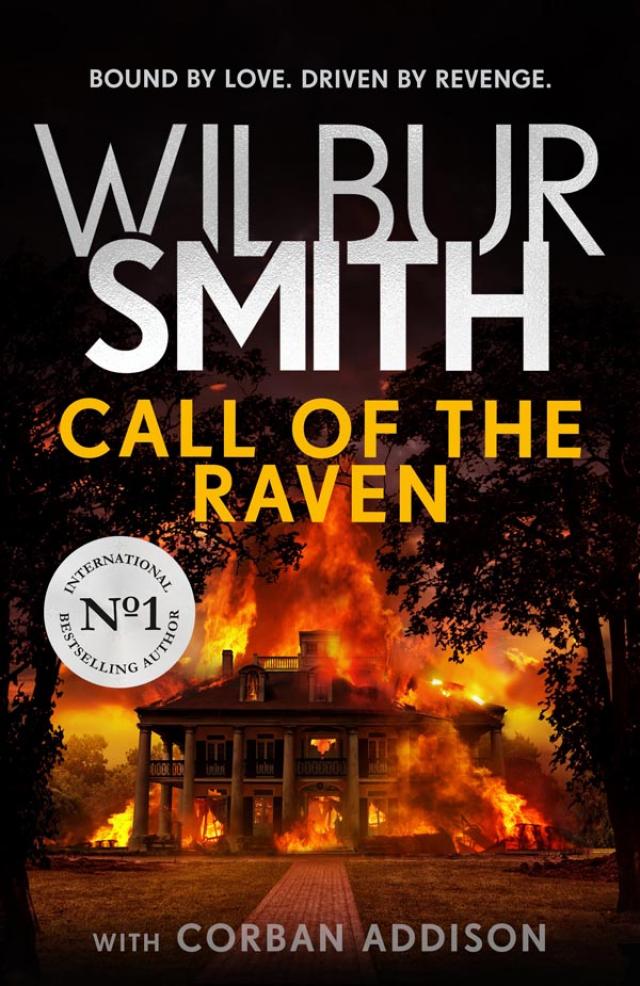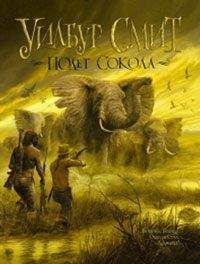Робин наложила на ногу горячий компресс, понимая, сколь жалки ее потуги — все равно что пытаться остановить прилив стеной песка. Наутро нога стала прохладнее на ощупь, плоть потеряла упругость, и под пальцами оставались вмятины, словно на мягком хлебе. Запах усилился.
Они сделали целый дневной переход. Робин шла рядом с носилками. Фуллер Баллантайн не двигался, словно мертвый, и больше не распевал псалмов и не возносил яростных молитв. Робин утешалась тем, что он хотя бы не чувствует боли.
К концу дня они вышли на широкую дорогу, что тянулась с востока на запад и в точности соответствовала описанию отца. Увидев ее, Джуба разразилась слезами и от ужаса не могла сдвинуться с места. Неподалеку оказалось покинутое поселение с ветхими хижинами — возможно, им пользовались работорговцы. Робин велела разбить там лагерь, оставила женщину и дрожащую от страха Джубу ухаживать за больным и взяла с собой на разведку только Карангу, который вооружился длинным копьем.
В двух милях от поселка тропа круто поднималась и исчезала в седловине меж двух невысоких холмов. Не здесь ли проходит та самая Дорога гиен, путь невольников, о котором со слезами рассказывала Джуба, и если да, то как это доказать?
Первое доказательство нашлось в траве в нескольких шагах от дороги — двойное ярмо, вырубленное из развилки дерева и грубо обтесанное топором. Робин изучала рисунки в дневнике отца и сразу поняла, что это такое. Когда у работорговцев нет цепей и наручников, они надевают невольникам на шею такое ярмо и двое рабов оказываются прикованными друг другу. Они все делают вместе: идут, едят, спят — но только не убегают.
Теперь от тех, кто когда‑то носил это ярмо, остались лишь обломки костей, обглоданные грифами и гиенами. Грубо вырезанное приспособление вселяло ужас, и доктор не решалась прикоснуться к ярму. Робин произнесла короткую молитву за несчастных погибших рабов и повернула назад в лагерь.
Той же ночью она собрала на совет готтентотского капрала, старого Карангу и Джубу.
— Лагерем и дорогой не пользовались столько. — Каранга дважды показал Робин обе руки с растопыренными пальцами. — Двадцать дней.
— В какую сторону они шли? — спросила Робин.
Она доверяла умению старика читать следы.
— Они шли к восходу солнца и еще не вернулись, — проскрипел Каранга.
— Он прав, — подтвердила Джуба, с видимым усилием соглашаясь с тем, кого она презирала. — Это последний караван перед приходом дождей. Когда реки наполнятся, торговли не будет и Дорога гиен зарастет травой до следующей засухи.
— Значит, впереди идет караван работорговцев, — задумчиво произнесла Робин. — Если их нагнать…
— Это невозможно, госпожа, — перебил капрал. — Они опережают нас на три недели.
— Тогда встретимся с ними на обратном пути, когда они продадут рабов и вернутся.
Капрал кивнул, и Робин спросила:
— Если работорговцы нападут на колонну, вы сможете нас защитить?
— Я и мои люди, — капрал вытянулся во весь рост, — справимся с сотней грязных работорговцев. — Он помолчал и добавил: — А вы, госпожа, стреляете, как солдат!
Робин улыбнулась.
— Хорошо, — кивнула она. — Пойдем к морю этой дорогой.
Капрал радостно ухмыльнулся:
— Меня тошнит от этой страны с ее дикарями. Скорее бы увидеть облака на Столовой горе и промочить горло добрым глотком «Кейп смоук»!
Самец гиены был стар. Его густая косматая шкура изобиловала проплешинами, плоская, почти змеиная, голова покрылась шрамами, а уши он оторвал, продираясь через терновник и участвуя в сотнях драк с сородичами над разлагающимися трупами людей и животных. В одной из стычек ему разорвали губу до самых ноздрей, и она зажила криво — желтые верхние зубы с одной стороны блестели в отвратительной усмешке.
Клыки его истерлись от старости, и он уже не мог разгрызать крупные кости, составляющие основу рациона гиен. В драках от него толку не было, и стая изгнала бесполезного старика.
Колонна работорговцев прошла по дороге давно, и человеческих трупов уже не осталось, а дичь в этой засушливой местности найти было непросто. С тех пор приходилось кормиться лишь свежим пометом шакалов и бабуинов да гнездами полевых мышей, а иногда удавалось найти брошенное протухшее яйцо страуса. От удара лапы оно взрывалось, выбрасывая бурлящий фонтан зловонной жидкости.
Однако, несмотря на вечный голод, старый самец достигал в холке трех футов и весил полторы сотни фунтов. Брюхо под спутанной клочковатой шерстью было впалое, как у гончей. По спине от нескладных высоких плеч к тощим задним лапам спускался костистый гребень.
Как обычно, старик, опустив нос к земле, принюхивался в поисках падали или отбросов, но налетевший ветерок заставил его задрать голову и изуродованными ноздрями втянуть воздух.
Пахло древесным дымом и человеком, что само по себе сулило пищу, однако резче и яснее других был запах, от которого с искалеченных, покрытых шрамами челюстей тягучими серебристыми нитями потекла слюна. Старый самец неуклюжей рысцой затрусил навстречу ветру, доносившему волны самого соблазнительного для гиен аромата — сладковатого зловония разложившейся плоти.
Гиена залегла неподалеку от лагеря за кустиком жесткой слоновьей травы, наблюдая за силуэтами, мелькающими у дымных сторожевых костров. Она лежала по‑собачьи, положив морду на передние лапы и поджав пушистый хвост. Рваные огрызки ушей подергивались, ловя звуки человеческих голосов, случайный лязг ведра, стук топора по дереву. Легкий ветерок то и дело доносил восхитительный аромат тления, и гиена принюхивалась, с трудом подавляя жадное повизгивание, рвавшееся из горла.
Вечерние тени сгустились. Из лагеря вышла полуобнаженная черная женщина и направилась прямо к тому месту, где спряталась гиена. Зверь подобрался было для прыжка, но Джуба остановилась и внимательно осмотрелась. Никого не заметив, она приподняла подол расшитого бисером передника и присела на корточки. Вжавшись в землю, гиена пристально следила за ней. Женщина встала и вернулась в лагерь, и тогда зверь, осмелев с приближением ночи, подполз и сожрал ее испражнения. Съеденное разожгло аппетит, и, когда опустилась тьма, самец раздул грудь, задрал пушистый хвост и протяжно визгливо завыл. Никто из обитателей лагеря даже не обернулся, давно привыкнув к подобным ночным звукам.
Постепенно движение у хижин стихло, людские голоса замирали, пламя костров тускнело. Темнота наползала на лагерь, а вслед за ней ползла и гиена. Внезапные громкие голоса дважды заставляли ее галопом скрываться в кустах, но едва наступала тишина, зверь набирался смелости и полз дальше. Уже далеко за полночь гиена отыскала в колючей изгороди слабое место и пролезла внутрь.
Запах вел к открытому навесу в центре огороженной площадки. Припав брюхом к земле, зверь, похожий на огромную собаку, подкрадывался все ближе и ближе.
Измученная усталостью, тревогой и чувством вины, Робин уронила голову на скрещенные руки и уснула, сидя на земле у носилок отца.
Ее разбудил пронзительный крик больного. Лагерь окутывала непроглядная тьма, и на миг Робин почудилось, что это ночной кошмар. В панике она вскочила на ноги, не понимая, где находится, и споткнулась о носилки. Руки наткнулись на что‑то большое и волосатое, от которого исходил запах смерти и экскрементов, тошнотворно смешиваясь со зловонием отцовской ноги.
Робин взвизгнула от ужаса, и зверь зарычал — приглушенно, сквозь стиснутые челюсти, как большая собака, грызущая кость. Тем временем крики старика подняли на ноги весь лагерь, кто‑то бросил в пепел сторожевого костра пучок сухой травы. После кромешной тьмы оранжевое пламя показалось ярким, как полуденное солнце.
Огромный горбатый зверь тащил Фуллера из носилок вместе с грудой одеял, вцепившись ему в ноги. Робин слышала, как трещат кости, зажатые в страшных челюстях. Обезумев от ужаса, она схватила топор, лежавший возле кучи дров, и рубанула изо всех сил по темному бесформенному телу.
Получив удар, зверь сдавленно взвыл, однако темнота и голод придавали ему смелости. Сквозь одеяла сочился тот самый лакомый запах, и, ощутив его, гиена не собиралась выпускать добычу.