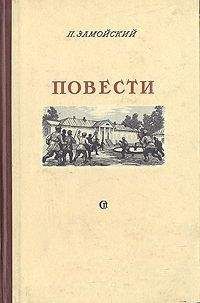— Он уж догадался… в мастеровых стрелять. А на мужиков казаков нашлет.
— На всех казаков не хватит, — сказал Иван.
— К Харитону, слышь, урядник заглядывал? — спросил крестный Матвей.
— Он и со мной толковал. Все пытал, кто приезжал, что говорил.
Костер горел слабо, то потухая, то вспыхивая. Тихо говорили мужики. Мне захотелось спать. Посидев еще, я незаметно поднялся и ушел к своей телеге. Наши спали. Я улегся рядом с Филькой. Сон быстро одолел меня. Снились коровы, слышался их глухой рев, окрик дяди Федора. Степь снилась, стойло, треск кузнечиков, жужжание оводов, от которых коровы бегали. Потом приснился урядник. Он пришел в поле и начал меня допрашивать, кто был у Харитона.
…Утром проснулись все вместе. До завтрака все ушли работать. Мы с Филькой принялись за перепелку. Ощипали ее, разрезали на части, нашли сковороду, масло и принялись жарить у костра. Жарить перепелов, скворцов, голубей я научился за стадом. Перепелку мы зажарили хорошо, накрошили на сковороду картошки, нарезали луку и все это залили перепелиными яйцами. Нам хотелось угостить мать. Мы отложили для нее кусочек, остальное, разделив поровну, съели. Наши сверстники только еще просыпались. Я отвел Князь–мерина на траву и пошел ходить по лесу. Грустные мысли обуяли меня. Хотелось идти и идти. Лесом, полем, в дальние села и уж совсем скрыться с глаз долой.
Ощущая в сердце холод и обиду на себя, на родных, на весь мир, шел я глухим лесом, сам не зная куда. Приступы такие нередки со мной. Иногда хотелось лечь и заснуть. Спать, спать и во сне умереть.
В такие моменты я становился безвольным, ко всему безразличным. Лишь какое‑нибудь случайно завязшее слово надсадливо звучало в ушах, а иногда преследовал, злил, словно овод, напев.
Вышел на опушку леса. Трава тут еще не скошена, и вряд ли ее будут косить. Вокруг дубы. Они — могучие, толстые, с огромными тяжелыми кронами. Невольно прикинул — на сколько дней хватило бы тут пасти коров. Дней на десять. И трава хорошая, лесная, не иссохшая от солнца. Вон дуб. Ему не меньше двухсот лет. Такой годен на дрова или на давило для маслобойни. Корням его в земле тесно. Они вышли наверх и расползлись по земле, как удавы.
«Сколько царей пережил этот царь лесов, сколько у него было хозяев, сколько людей он еще переживет? Умру и я, он все еще будет стоять… А что, если, в самом деле, мне умереть сейчас? Лечь под дубом и лежать, не вставая. И умереть с голоду. Зачем жить? Кому я нужен? Для чего? Стадо пасти? Побираться? Что ждет меня, когда вырасту большой? Тоже стадо. А по зимам сумки крест–накрест? Или в работники к богатым? На них буду ворочать, а у самого ни избы, ни земли. Если заболею, где голову преклоню? Нет, нет, лучше сейчас умереть. Вот сейчас, сразу… И никто не увидит, не узнает и не найдет меня тут».
Быстро развязываю веревочный пояс, прикидываю — хватит ли, чтобы закинуть его на сук. Но сук высоко. Кроме того, пояс может оборваться. Нет, нет вот как надо! Я делаю петлю, забрасываю себе на шею и сначала тихо, а затем все сильнее и сильнее затягиваю. Уже захватило дыхание, темнеет в глазах, точки запрыгали, наконец подкашиваются ноги. Уже совсем теряю сознание и только одно в голове бьется: сильнее, сильнее, сильнее. И вдруг чувствую, как холодная струя прошла от головы к ногам. И все тело покрылось льдом, и ужас охватил меня. Закачались дубы вкривь и вкось, пошло все, заплясало. Вскрикнув дико, сдавленно, я побежал. Падаю в траву, встаю, снова бегу и никак не снять петли с шеи. Вот еще упал на какой‑то куст и, почти теряя сознание, дрожащими руками снимаю петлю.
— Мамка! — крикнул и заплакал.
Лежу ничком возле куста, лежу и плачу, плачу и твержу:
— Мамка, мамка, спаси…
Совсем забылся и не знаю — спал ли, бредил ли.
Солнце уже высоко. Стыдясь, словно кто‑то был свидетелем, я мысленно прошу его, чтобы он никому ничего не говорил. Пошел из лесу наугад. Посмотрел на солнце, привычно прикинул, что стадо теперь наелось и полегло. Вот показался просвет в лесу, вот и поле, чьи‑то чужие яровые…
— Нет, не буду больше. Никогда не буду, — твержу я. — Нет, как‑нибудь уж, а надо жить… Жить!
Далеко отбросив пояс, я шел межой, держась подальше от кустов и леса. Надо мною пели жаворонки. Я слушал их, как добрых знакомых, с которыми будто давно не виделся. И все, что видел сейчас, — небо, и поля, и птиц, и травы — все было как бы новым, радостным. И самого охватила радость. Быстрым шагом направился к нашей стоянке. И когда еще издали услышал голоса своих товарищей, мне хотелось бежать к ним, обнимать их, смеяться, прыгать, лазить по деревьям, валяться в траве.
Перед обедом, когда не только вдосталь полазили мы по дубам, но учились косить, я улегся под кустом с книжкой «Детство» Толстого. Куча ребят окружила меня. Загорелые, босоногие, вихрастые, веснушчатые, как и я, они приготовились слушать. На момент я почувствовал себя маленьким Харитоном. Жаль, что не было тут Павлушки. К нему схожу после обеда, когда мужики и бабы лягут спать.
— Знаете ли вы — кто такой Лев Толстой? — спросил я.
— Знаем, — ответили ребята. — Учитель рассказывал.
— Я вам прочитаю, как он жил в детстве. Он сам про это пишет. У него не такая была жизнь в наши годы. Нужды с горем он не знал. Говядину ел каждый день — в обед и ужин.
И начал им главу, которую сам только вчера читал.
— «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений. Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром…»
— Молока с сахаром? — перебила меня Ивана Беслятого Катька, вихрастая девчонка. — Эдака сласть…
— А ты молчи, сластена.
Я читаю медленно, задумчиво.
— «…встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь в кресло».
— Кресло, вроде зыбка, что ль? — спрашивает Костя, сын Орефия Жилы.
— Тебе не все равно? — говорю я, так как сам не знаю, что такое кресло.
— По всему видно, спать в нем можно, — говорит Степка Ворон, парень рассудительный. — Читай дальше.
— «Ты опять заснешь, Николенька, — говорит мне татап».
— Татапом тятьку, что ль, у них зовут? — осведомляется Ленька–крапивник, не знающий, кто у него отец.
— Нет, тут такие буквы, вроде не наши. По–русски читается татап, и вроде не про отца говорится, а про мать.
— Валяй, увидим, куда дело будет клонить, — опять сказал Степка Ворон, которому всегда хотелось знать, что к чему.
— «Я не хочу спать, мамаша…»
— Так и есть, татап — это мать, — радуется Ленька. — Чудно!
…«Через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья‑то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко–крепко прижмешь ее к губам».
— Ах, черт! — воскликнул Костя. — К губам. А мне моя татап сколько раз прижимала свою лапу к губам! Как съездит, света не видно.
— Читай, куда дело повернет, — крикнул Степка.
— «Вставай, моя душечка, пора идти спать».
— А меня мать вот как будит, — перебивает Ленька: — «Эй, рябая харя, аль кочергой огреть?»
— Слушайте, слушайте, — вступается Степка. — Не о нас ведь написано.
— «Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.
— Вставай же, мой ангел».
— Ангел?! — воскликнула Катька, — Это кто ангел?
— Небось, не ты, — заметил ей Костя. — Ты на мокрую курицу больше похожа.
— «Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня…»
— Боюсь щекотки! — вдруг взвизгнула Катька.
— А–а, боишься!.. — тут же набросился на нее Ленька и принялся щекотать.
Она визжала, отбивалась, потом разревелась и укусила Леньку за палец.
— Бросьте! — прикрикнул Степка. — Аль ладонь прижать к губам?
Меня самого подмывает смех, но я серьезно продолжаю чтение.
— « — Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!
Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени».
— Точка в точку, как моя мать, — вздыхает Ленька. — Попадешься ей в руки, голову зажмет ногами и пошла писать по заднице. А муж ейный только и кричит: «Поддай жару крапивнику, еще, еще!» Ох, и лупцует…
— «Так ты меня очень любишь?.. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?»
— Нет, не забуду, — усмехается Ленька, — будь тебе неладно!
— «Она еще нежнее целует меня.
— Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! — вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз…
После этого, бывало, придешь наверх и станешь перед иконами в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: спаси, господи, папеньку и маменьку…»