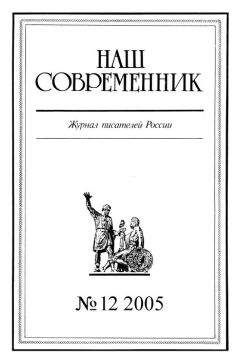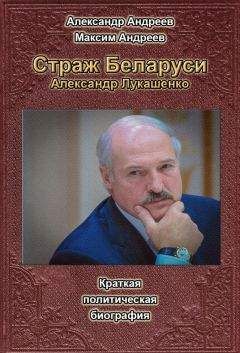Я заметил, что в его библиотеке современных поэтических книжек было мало. Ценил стихи Станислава Куняева, Владимира Кострова. Постоянный интерес вызывал у него Юрий Кузнецов. Знал, и хорошо, поэзию Рубцова. К судьбе поэта относился с душевной болью, как к жертве.
В одну из самых первых встреч спросил:
— А как вы относитесь к Куняеву?
И задавал этот вопрос не единожды. Я каждый раз отвечал, что знаю Станислава очень давно, что отношусь к нему и его поэзии хорошо. Такой ответ его явно удовлетворял. Для Георгия Васильевича было характерным постоянно возвращаться к одним и тем же вопросам. И это происходило не по забывчивости: памяти его можно было только завидовать. Этим он как бы проверял свои собственные взгляды на человека и события. Но, повторюсь, поэтами, ныне живущими, интересовался мало. Другое дело — прозаики. Их жизнь и творчество постоянно занимали его. О Викторе Астафьеве говорил чаще, чем о других:
— Астафьев в нашей национальной литературе — грома-а-аднейший талант (выделил голосом) и великий труженик! Его проза подобна каменной кладке — объемна и на века. Так строились древнерусские кромли.
Вместо широко употребимого «кремль» Георгий Васильевич произнёс теперь уже забытое древнерусское «кромль». Кстати, доныне сохранившееся в курском речении. Он нечасто, но любил употреблять слова, пришедшие к нам из далекого прошлого в первозданной их красоте. Я сказал, что Виктор Петрович исковерканной ранением рукой, с единственным зрячим глазом, макая в чернилку-непроливайку старенькую ученическую ручку, писал, поначалу не вставая от стола, до десяти часов кряду. Но и этого было мало. Уже готовую рукопись, от начала до конца, «белил» всё той же ручкой по многу раз, а потом ещё и правил по напечатанному женой тексту не единожды. Некоторые повести переписывал до десяти раз. Георгий Васильевич, утверждавший, что музыку невозможно придумать — «её надо сначала услышать», — более, чем кто-либо, знал, как тяжек труд перенести услышанное на бумагу.
— Астафьев свою прозу слышит. Она является ему, как музыка, — произнёс убеждённо.
И тогда я рассказал, что все произведения Виктора Петровича, от первых рассказов и повестей вплоть до «современной пасторали» «Пастух и пастушка», слышал от него изустно.
— Он пересказывал вам сюжеты?
— Нет, он «проговаривал» каждую свою вещь. Творил. Порою в лицах, целыми готовыми кусками! И так увлекательно, что и незаметно было, как истекает время. Случалось, ночами напролёт длилось изустное повествование.
Георгий Васильевич искренне восхитился. А потом надолго задумался. Сам великий труженик, но и умевший воплотить услышанное им в мгновение ока на нотные листы с гениальной простотою и без помарок, может быть, думал тогда о том, что не всегда следует быть «галерным рабом» своей профессии.
Услышанное от Бога всегда выше того, что перескажет художник людям.
— Юрий Николаевич, а то, что рассказывал вам Виктор Петрович изустно, это было его прозой?
Я не задумываясь ответил: «Да!». Кстати, эта изустная астафьевская проза до сих пор звучит в душе, не замолкая. И мне искренне жаль, что рука зрелого художника убрала многое из того «далёка», звучащего во мне.
Спустя четыре года после смерти Георгия Васильевича, за три месяца до своей роковой болезни, Виктор пришлёт мне последнее письмо. Со свойственной ему безжалостностью к своему творчеству, он написал: «…Однако ж, год не работавши по-настоящему, летом я раздухарился и написал шесть давно поспевших в подбрюшье рассказов да „затесей“ с десяток… и ещё вот два черновика рассказов выдал; кажется, удалось мне наконец-то писать без потуг на изысканную художественность и кустарное изящество, так писать, как рассказывать: просто, доступно и внятно…».
Великий русский писатель, оставивший после себя многие тома классической прозы, продолжает до последней минуты жизни искать в себе большей простоты, доступности и внятности.
Так произошло в моей жизни, что первые строчки, которые я прочёл в раннем детстве самостоятельно, оказались строками из «Тихого Дона». В своих воспоминаниях о Шолохове я писал об этом подробно. Но то, ещё не осмысленное чтение осталось в глубине памяти и, вероятно, каким-то удивительным образом повлияло на восприятие личности Михаила Александровича. Моё отношение к нему было изначально — сыновним.
В нашем доме кроме первых книг писателя был и небольшой его портрет, висевший на стене. Отец мой, страстный тогда фотолюбитель, сам переснял его, кажется, из «Роман-газеты», сам увеличил, отретушировал и заключил в им же изготовленную рамку, под стекло. Был Шолохов для меня сызмальства своим — семейным. Эту «семейную» любовь к нему пронес я по всей жизни. Очень долгое время считал, что так к нему все и относятся. И крайне был удивлен реакции когда-то очень известного критика В. И. Воронова, рецензировавшего в издательстве одну из моих книг.
— Мне твоя книга весьма понравилась, — сказал он, позвонив по телефону. — Я с чистой совестью написал сугубо положительную и даже хвалебную рецензию. Но есть в рукописи одно место, котороё меня не устраивает вовсе. Это твоё отношение к Шолохову. Он для тебя божество, ты на него снизу вверх смотришь!.. Должна быть своя писательская гордость: он писатель, и ты писатель! И почтения твои ни к чему!
— Он — Шолохов! — ответил я, считая, что этим всё сказано.
Однако критик был суров:
— Ну и что?!
В ту пору я уже кое-что понимал в шолоховской судьбе, но всё ещё не мог уяснить не просто драмы, но истинной жизненной трагедии русского гения. Позднее, при встречах с ним, увидел в глазах, даже смеющихся, постоянную, тщательно скрываемую боль. Меня удивляло, что близко знавшие Михаила Александровича люди, даже считавшиеся его друзьями, словно бы и не замечали этой боли, этой гнетущей тайны. Со многими пытался говорить об этом. Анатолий Владимирович Софронов, с которым я долгие годы работал в «Огоньке» и был близко знаком, даже рассердился на меня:
— О чём ты?! Шолохов — скала! Глыба! Ему ли терзаться блошиными укусами мелких склочников и подлецов! Он их и в микроскоп не видит! Он, Юра, человек межпланетарный. Любую сионистскую слизь отряхнет и не заметит!
— Какая ещё трагедия? Ты о чём, братец? Миша — Боец! С большой буквы боец! Кремень! Ты эти нюни выкинь из головы!.. — отчитал меня и ещё один из «близких».
— Шолохов — самая трагическая фигура за всю историю русской литературы, — сказал Георгий Васильевич в ответ на мой коротенький рассказ о последней встрече с Михаилом Александровичем. — Думаю, не только русской, но и мировой литературы. Удивительная, трагичная судьба! Я много думал об этом… Каким гениальным терпением надо было обладать, какой удивительной стойкостью, чтобы выносить всю жизнь эту каждодневную моральную пытку! Она куда пострашнее пытки физической! Знаете, нечто подобное испытывал и я. И меня намеренно, устремленно подвергали подобной пытке… Правда, периодами. Отпустят на какое-то время, снова начинают пытать. А у него пытка не прекращалась всю жизнь.
Георгий Васильевич в общении позволял себе иногда долгие монологи. Случалось это, когда говорил о том, что очень глубоко волновало и о чём он уже много думал. Так было и в тот раз. Вот краткий пересказ такого монолога, который я записал сразу же после встречи с ним.
— Почему? В чём тут дело? Одарённый молодой человек, уже заявивший о себе своеобычной прозой, написал роман. Ещё не эпопею, не «Тихий Дон», но свежо, ярко, могуче! Радоваться бы умножению славы литературной! Ан нет! Начинается какая-то возня уже с журнальной публикацией: распространяются некие слухи, предлагаются неприемлемые поправки, всё прочее!.. Потом пуще того: от автора требуют, не меньше и не больше — доказательств, что произведение написано им! Чудовищно, но факт! И автор, вместо того чтобы продолжать своё великое дело, вынужден доказывать своё авторство.
Это ли не провокация? Это ли не изощренная моральная пытка, желание сломить духовно?! Но почему? Почему?.. Ответ смехотворный: «Слишком молод. Недостаточно образован. Не из тех, кто мог бы это совершить». И всё такое подобное… Дар Божий летами не определяется! О каком Божьем даре может идти речь среди воинствующих безбожников?
Сталин спас Шолохова от физического уничтожения — это факт. Но спасти его от постоянной моральной пытки никто за всю его жизнь и не пытался. Ни власть, ни общественность, ни друзья, ни «мастера культуры»… Более того, среди этих «мастеров» и вскармливались те самые подлые интриги против национального гения. Непостижимо! Это просто кошмар! Мы все, жившие рядом с ним, уверенные в его великой правоте, считали, что такой проблемы не существует! А он нёс эту боль, эту трагедию всю свою жизнь стоически. И казнила его мировая антреприза!
В существовании таковой Георгий Васильевич не сомневался. Более того, он приводил неоспоримые факты, подтверждавшие эту его мысль, и был всегда точен в оценке многих, якобы случайных событий, совершавшихся постоянно в мире искусства. Он не скрывал этих своих убеждений и был жестоко ненавидим этой «антрепризой».