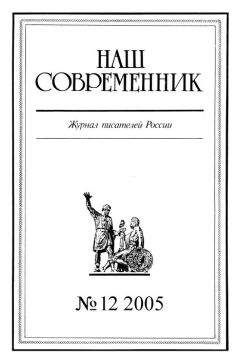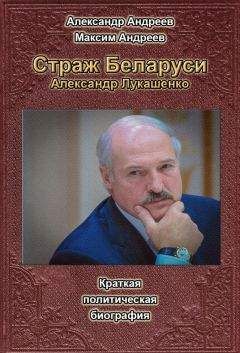— Рассказывайте не спеша, времени у нас много, и поподробнее.
Постараюсь как можно точнее передать тот рассказ.
Ранней весной 1964 года я вынужден был бросить работу на Всесоюзном радио, поскольку меня и так должны были уволить за происшедшее в Краснодарском крайкоме партии.
Кубань тогда гремела на всю страну необыкновенными успехами в сельском хозяйстве. Об этом много писали в печати и сообщали постоянно по радио. Первого секретаря крайкома партии лично опекал Никита Сергеевич Хрущёв, и тот, отвечая на внимание вождя, не скупился на всё более и более победные реляции. Однако на местах дела обстояли совсем иначе. Урожайность повышалась посредством приписок и снижения заработной платы сельским труженикам, сокрытием площадей посевов и многими другими махинациями на районном и краевом уровнях. Такие уловки умело скрывались от центра, но в самом крае все, от мала до велика, знали об этом. Я, прилетев в Краснодар, не собирался делать разоблачительные репортажи. Мечтал о добром общении с простыми людьми, счастливо и богато живущими и трудящимися на благо своей земли. Хотелось необычно «вкусно» рассказать о трудовой весне этого благодатного края. Да и проблемные радиоочерки не входили в программу нашей литературной редакции. Своими творческими планами поделился в крайкоме. Тогда было обязательным ставить в известность местное руководство о своем прибытии в командировку, спрашивать совета, куда лучше поехать и даже о чём написать. Мои планы в крайкоме были встречены весьма одобрительно. И я был обласкан властью. Мне выделили персональный «газик» для поездки по районам, сообщили на места, дабы там всячески помогали мне, выделили сопровождающего.
Однако то, что я увидел на кубанской сельщине, что услышал от простых тружеников, начисто лишило лирического настроя. Свято веря, что всё совершаемое на местах, вся эта ложь, все эти махинации, о которых рассказывали крестьяне, не ведомы высокому начальству, я помчался в Краснодар, дабы «открыть глаза» власть предержащим. Ох, эта извечная наша национальная наивность!
После объяснения с секретарем по сельскому хозяйству мне было немедленно предложено завершить командировку и покинуть край. В горячке разговора я назвал очковтирателем не только первого секретаря крайкома, но и самого Хрущёва. Конечно, всего лишь моя горячность, не больше. Однако делу немедленно дали ход. Из Москвы в тот же день пришла телеграмма, отзывавшая меня из командировки, а в гостинице, где я занимал двухкомнатный «люкс» с балконом, предложили сдать его в течение суток. Всё это происходило с утра в пятницу, а вечером в мой «люкс» нагрянула пишущая краснодарская братия. Все они были в курсе происшедшего и все как один считали, что я «молодец». Я и сам так считал, вполне оценив свою «значимость» в борьбе за правду. Кто-то из великих мира сего сказал: «… ничто так не губит душу, как жажда нравиться людям». Но я бы добавил: «и более всего — жажда нравиться самому себе!» О, как я нравился тогда самому себе, готовый доказать всем, на что ещё способен!.. В тот вечер не просто было пьяно и шумно в гостиничном номере, там «творилась история»!.. И продолжение её «творения» совершалось ещё и в субботу, и в воскресенье…
Тот воскресный вечер выдался необыкновенно тёплым, горожан на улицах было много. К ним и обратился я с речью, выйдя на балкон, разоблачая козни «бессовестной краевой власти». Я мало что помнил из совершённого мною, когда в понедельник, почти в полдень, меня разбудил звонок. Доброжелатель, явно изменив голос, сообщил, что в крайкоме только что принято решение передать меня «компетентным органам»:
— Срочно мотай из города! — посоветовал доброжелатель.
В этом месте Георгий Васильевич прервал мой рассказ:
— В молодости, приехав в Москву, я стр-а-ашно пил! Чуть было не погиб. Мало кого из русских музыкантов, писателей, актеров миновало это роковое испытание. Многие, и очень одаренные, не выдержали его. Что это такое, как вы думаете? — спросил он.
— Думаю, что вы ответили на это, — сказал я. — Испытание. В то самое время, о котором я рассказываю, работал на радио Володя Федосеев и тоже страшно пил. И нас часто сводило это самое «испытание».
Свиридов не просто высоко ценил дарование Федосеева, считал его первейшим нашим национальным дирижером, он нежно любил его, считая достойнейшим человеком.
Кстати, в ту роковую годину, когда наш русский гений в одночасье лишился всего, что заслужил величайшим своим трудом, и оказался брошенным всеми, Владимир Федосеев и жена его Ольга Доброхотова взяли на себя заботу о нём и об Эльзе Густавовне, не только поддерживали их духовно, но и выполняли хозяйственные необходимые дела, привозили продукты, купленные на свои деньги. Увы! Это было необходимо тогда.
— Да, да! Володя здорово пил, Оля спасла его, вытащила. И вы были знакомы в то самое время? Удивительно… Надо вовремя уловить тот момент, когда игра с вином вдруг становится игрой вина с тобою. Слава Богу, мы избежали этого.
Я сказал, что в ту пору, играя с вином, придумал в своё оправдание такое: «Пьянство не украшает русского человека. Но русский человек украшает пьянство!»
— Вы ещё и теоретиком были! — улыбнулся чуть грустно. — Это опасность великая. Однако я хотел бы дослушать ваш рассказ.
И я продолжил:
— Мне повезло. В тот самый момент, когда я положил трубку, в дверь постучали. И вместо «компетентных органов» в номер зашел мой давний приятель, который еще в Москве приглашал меня к себе в гости. Жил он в Адыгее, в горном ауле, писал стихи, а я переводил их на русский и всячески помогал ему укрепиться в столице. В Краснодар он приехал по делам на собственном «газике» и, узнав случайно, что я в городе, зашёл, дабы подтвердить свои московские приглашения. А уже через полчаса мы благополучно покинули город.
Как оказалось потом, «компетентные органы», не обнаружив меня в гостинице, отправились в аэропорт, поскольку я, сдавая номер, стремительный отъезд свой объяснил тем, что очень тороплюсь на самолёт.
Удивительно беспечно прожил целый месяц, переезжая от одной гостеприимной родни моего приятеля к другой, из одного аула в другой, чуть ли не всю Адыгею проехали таким «праздничным образом»…
Простыми и добрыми были тогда отношения между людьми на Кавказе. И чаще всего, не только в застолье, произносились убежденно и искренне слова — «брат» и «друг». Кстати, одну из очень серьезных загадок «Слова о полку…» помогла мне разрешить та поездка.
Однако пора и честь знать. Скрепя сердце возвратился я в Москву, где меня, кажется, уже никто не ждал, кроме органов, которым было поручено обнаружить беглеца. Незадолго до моего приезда в Москву начальник столичной милиции Н. Т. Сизов позвонил моей сестре, сказав, что, если она общается с братом, пусть сообщит ему, что дело «о совершенном им в Краснодаре» закрыто. Соответствующие инстанции приняли решение об увольнении с работы и запрете публиковаться в периодической печати, средствах массовой информации, а также книжных издательствах.
— И ещё прошу: пусть выйдет из «подполья». Оформит все формальности увольнения с работы. О чём очень просит главный редактор Кузаков. Кстати, это он попросил меня разыскать Юрия Николаевича. И мне неудобно перед ним, что вот уже почти целый месяц мои оперативники не могут отыскать вашего брата.
Сестра ответила, что связи у неё с братом нет, что она сама волнуется, не зная, что произошло.
Вернувшись в Москву, я, как говорится, оказался у разбитого корыта. Не было работы, не было дома, не было семьи. Родители жены, с которыми жили мы в одной квартире, поставили перед дочерью условие: либо мы, либо он. К тому же тесть по собственной инициативе обратился с письмом в КГБ, в котором обличал меня как «скрытую контру», просочившуюся в семью старого большевика. Письмо это было приобщено и еще к одному, написанному тем же автором в конце семидесятых годов в адрес Комитета партийного контроля ЦК КПСС, где разбиралось моё персональное дело.
Приехав в Москву и узнав обо всём этом, уладил все формальности с увольнением на Всесоюзном радио. Попробовал спасти семью, для чего оставил жене «полную» доверенность, по которой она могла получать во всех издательствах, журналах и газетах причитающиеся мне гонорары, из того, что уже было опубликовано до запрета (печатался я тогда активно), заключать от моего имени любые договоры и сделки, необходимые ей.
Когда я оформлял доверенность, нотариус — пожилая, весьма строгая женщина — спросила: «Вы хорошо знаете доверяемую и вполне представляете, что всю свою жизнь, да-да, жизнь, отдаёте в её руки? Такой доверенности мне не приходилось оформлять за тридцать с лишним лет работы!» Я ответил, что делаю это вполне осмысленно. К тому же «доверяемая» ожидала меня в приёмной нотариальной конторы. Доверенность была одним из условий сохранения семьи.