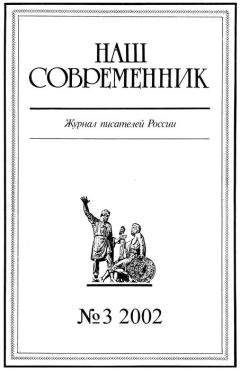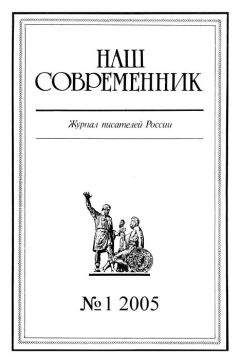Действительно, через шесть лет после учреждения Комиссии, уже в царствование императора Николая I, по его ноябрьскому указу 1826 г. генерал-адъютанту С. С. Стрекалову было поручено расследовать все дела Комиссии за все время ее существования. Или вот как об этом рассказывается в «Мертвых душах»: «Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой». Тут также необходимы комментарии. Под тюфяком, безусловно, подразумевается непременный член Комиссии «в звании директора строения и экономической части», «академик, коллежский асессор», а затем надворный советник, кавалер ордена св. Владимира 3-й степени А. Витберг. Именно он, по словам мемуариста, «в деле стройки запутался как поэт, не умевший вести никаких счетов, полагавший, что это не нужно, что это совершится как-нибудь само собою» (Н. В. Берг). В результате дело для Витберга закончилось ссылкой в Вятку. Судьба Чичикова, благодаря протекции «умного» генеральского секретаря и сострадательности генерала к несуществующему, но «несчастному семейству» Павла Ивановича оказалась не столь печальной, хотя поначалу все складывалось совсем плохо.
Ведь генерал сразу же «пугнул» «всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности; дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов, все распушено было в прах, и Чичиков более других». В действительности дело развивалось так: в результате стрекаловской ревизии 11 июня 1827 г. последовал сенатский указ об упразднении Комиссии о сооружении в Москве храма во имя Христа Спасителя, а в феврале следующего года — высочайшее повеление об отдаче членов Комиссии под суд Московской уголовной палаты. В том же году «после проверки отчетов» за Комиссией насчитали до 900 тысяч руб. «разного рода растрат», и имения ряда членов комиссии были секвестированы. И только в 1835 г. было объявлено окончательное решение Московской уголовной палаты, рассмотренное Государственным советом и утвержденное Николаем I. В нем речь шла о том, что в «покрытие убытков» «все имущество осужденных» было взято в казну и продано с публичных торгов.
Гоголь был достаточно осведомлен об обстоятельствах деятельности Комиссии и их последствиях. Сосед Гоголей по имению некий г-н Клименко был членом Комиссии и в самом начале процесса отстранен от должности за хищения и умер под судом, несмотря на все хлопоты через посредство В. А. Гоголя влиятельных земляков (Д. П. Трощинского и др.) о реабилитации. Его вдова, М. В. Клименко, несмотря на это, решила добиваться пенсии по умершему мужу-чиновнику, и, по желанию М. И. Гоголь, ее сын должен был содействовать в Петербурге этому делу. 11 февраля 1831 г. он писал матери в Васильевку: «Насчет дела г-жи Клименковой удовлетворительного ничего не могу сказать. Одна только сильная протекция могла бы сделать что-нибудь в ее пользу, но и то не в таких обстоятельствах, как ее нынешние. Вам, я думаю, известно, что комиссия построения храма в Москве уничтожена по причине страшных сумм, истраченных ее чиновниками. Все они находятся едва ли до сих пор не под следствием; следовательно, не только не в праве требовать себе пенсии, но даже могут ожидать неприятностей».
Эти сюжеты, в которых столь причудливым образом соединяются великое и смешное, историческое и бытовое, мистическое и уголовное, объединяет одно. Они принадлежат эпохе, во многом по-прежнему остающейся для нас загадочной, и писателю, тайну творчества которого будет разгадывать еще не одно поколение читателей. Но об этом, в сущности, уже сказано в названии статьи и в ее подзаголовке.
Илья Сергеевич Глазунов ворвался в мою жизнь через моего девятнадцатилетнего отца, который в далеком 1957 году, за целых пять лет до моего рождения, побывал на выставке в Центральном доме работников искусств, куда привел своих студентов поэт и журналист Василий Дмитриевич Захарченко, руководитель семинара поэзии Литературного института имени Горького. Завороженный увиденными картинами, мой отец тогда еще не подозревал, что его сын через четверть века будет не раз сидеть в компании Захарченко за одним столом с Глазуновым.
В родной Самаре, в отцовской библиотеке были собрания сочинений Лескова, Достоевского, Мельникова-Печерского с глазуновскими иллюстрациями. От отца я узнал, что в Москве есть замечательный художник, видевшийся мне в детстве былинным богатырем.
Летом 1978 года отец привез меня, пятнадцатилетнего и долговязого, в Москву держать экзамен в Художественное училище памяти революции 1905 года, что тогда располагалось на Сретенке. Каждый день после экзаменов мы с отцом по Сретенскому бульвару шли на улицу Кирова, то есть на Мясницкую, в Главпочтамт, звонить волнующейся маме, и наш путь неизменно лежал мимо баженовского здания, принадлежавшего до революции Училищу живописи, ваяния и зодчества, после революции — ВХУТЕМАСу, а с тридцатых годов — разным учреждениям, не связанным с искусством. Мы с отцом, понятно, не догадывались, что через десять лет Илья Глазунов сумеет вернуть эти стены художникам, откроет новое учебное заведение — Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, где многие из его учеников станут первыми преподавателями, а другие, как я, решат сперва испытать себя в свободном полете.
Да… Невозможно заглянуть в будущее, как нельзя полистать страницы еще не написанной книги. Остается лишь дивиться способности судьбы водить человека вокруг предназначенного. Вот и мой друг Игорь Наскалов не мог знать, преданно идя за Глазуновым, что, окончив Мастерскую портрета Суриковского института, уедет навсегда жить в Америку, и другой мой друг Сергей Поляков не думал, бросая Строгановское училище ради глазуновской школы, что пройдет совсем немного времени и он станет открещиваться от ее «дурного наследия».
Теперь каждый из нас выбрал свой путь. Но в то время, настойчиво колотя кулачками в ворота художественных вузов, желая пройти настоящую, серьезную школу, мы были накрепко связаны и не сомневались, что это навсегда…
Весной восьмидесятого года я заканчивал второй курс училища, а Игорь и Сергей сдавали последние зачеты, выходили на диплом, готовились поступать в институты. Упорный Серега добился разрешения посещать всем желающим вечерний рисунок. Нашли натурщицу, стройную, красивую, с золотистой копной пышных волос. После занятий нас собиралось человек десять энтузиастов — делали наброски. Взлохмаченный, весь нацеленный и собранный Поляков откидывался на табуретке, прищуриваясь, вглядывался в модель.
— А сколько минут рисуем? — спрашивал от стены робкий голос.
— Пятнадцать! — через плечо отвечал Серега.
— Мало! Давайте полчаса! — слышались возгласы.
— Картины на занятиях будете делать! — парировал непреклонный Поляков, резко чертя кучерявой бородой по воздуху. — Пятнадцать!
И сильной смуглой рукой с короткими крепкими пальцами быстро и уверенно шнырял по белому листу.
В перерыве выходили покурить на темную лестничную площадку: во всем училище давно уже был выключен свет. Облокотясь на перила, вглядывались в черное окно с россыпью горящих огней необъятной Москвы.
— Куда задумал идти, Игорек? — спросил как-то Серега.
— Если честно, в город Петра хочу рвануть, на реставрацию.
— Это серьезно… А я вот надумал в Строгана податься. Солидная контора. Работа с материалом, разные техники и приемы. Ну, а если не туда… Пошел бы в Суриковский к Глазунову. — Да, да! — заметив наше с Игорем заострившееся внимание, продолжал Поляков. — У него мужики делом занимаются. Осваивают настоящую школу, изучают старых мастеров, копируют. А то, как к нему некоторые относятся — ерунда. Главное — к чему он призывает, чему учит…
Первым из моих друзей по училищу к Глазунову поступил Игорь Наскалов. Дружба с Игорем сделала для меня невероятно близкой Мастерскую портрета. Теперь, встречая его вечером на переделкинской даче, которую мы вместе с ним сняли на зиму, я узнавал все больше ярких подробностей о личности Глазунова, о его манере преподавать, о его принципах, о тех высотах мастерства, к которым он вел учеников. Прежде всего притягивало то, что Глазунов никогда не выпячивал перед студентами свое художественное «я», ориентируя их на высокие образцы прошлого. Совсем не так обстояло дело в знаменитых мастерских Мыльникова и Моисеенко в репинском институте, где маэстро напрямую передавали ученикам личную манеру письма, размножая себе подобных.