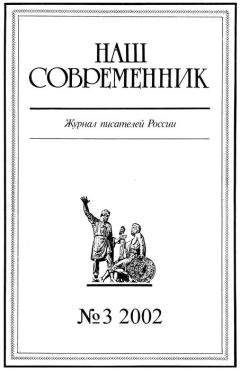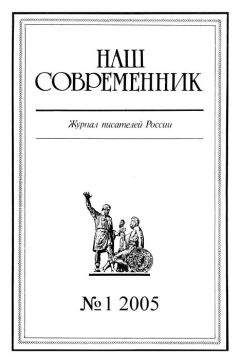— Глазунов хорошо тебя встретил…
— Спасибо, мужики, — заулыбался я.
К метро шел не чуя ног, забыв о тяжести холстов в руке. Глазунов не оттолкнул. Выдержан первый и, пожалуй, самый главный экзамен.
Между тем в училище меня к тому времени давно считали белой вороной, глумясь, издеваясь, склоняя на все лады дорогое для меня имя — Глазунов.
Помню, как мне влепили трояк по композиции за «Моцарта и Сальери», и Осип Абрамович Авсиян, наш главный композитор, отчитывал меня, а ему вторила завуч Елизавета Васильевна Журавлева:
— Нас, Щаньков, задевает, что вы не на тех художников ориентируетесь. Мы всерьез обеспокоены вашим будущим. К чему хорошему может привести дурной вкус Глазунова? Вы, конечно, не уважаете нас, если умудрились полюбить Глазунова, но пока вы здесь учитесь, требования нужно выполнять наши. А уж мы со своей стороны, смеем вас заверить, приложим все усилия, чтобы глазуновщина в наши стены не пролезла…
Неприятие Глазунова-педагога процветало и в Суриковском. На одном из просмотров кто-то из ненавистников насыпал по всей мастерской нафталину. Но глазуновцев-то была целая сплоченная группа, не то что я — один на один с целым училищем. Я старался изо всех сил, но меня резали по всем предметам. Ни о каком высоком училищном балле при поступлении в институт мечтать не приходилось. В результате на вступительных экзаменах мне не хватило всего 0,5 балла, и я оказался за бортом.
Промыкавшись всю ночь по Тверской, я наутро пришел в Калашный к Глазунову. Илья Сергеевич оставался моей последней надеждой. Из телефонной будки набрал номер. В трубке услышал голос жены Глазунова, Нины Александровны.
— Здравствуйте. Это Шаньков. Абитуриент. А Илья Сергеевича…
— Его пока нет… А что у вас случилось?
— Не прошел…
— Горе какое… Вы где сейчас?
— Внизу. У подъезда.
— Поднимайтесь. Седьмой этаж. Подождете Илью Сергеевича…
Едва взглянув на меня, Нина Александровна молча, как старого знакомого, попавшего в беду, повела на кухню отпаивать чаем. В квартире постоянно трещал телефон, и Нина Александровна, пододвинув ко мне масло, сыр и хлеб, предложила не церемониться и тут же оставила меня. Не успел я запихнуть бутерброд в разинутый рот, как она вернулась.
— Вы ведь, кажется, не были еще в мастерской Ильи Сергеевича?
Пока я соображал, заглатывая бутерброд почти целиком, о какой мастерской идет речь, Нина Александровна пояснила:
— Я сейчас поведу наверх двух господ, и вы тоже можете присоединиться.
В коридоре двое чрезвычайно солидных мужчин, видимо, так же, как и я, впервые посетивших глазуновский дом, на всякий случай почтительно поздоровались со мной за руку.
Нина Александровна вела нас мимо лифтов по крутой черной лестнице, казалось, на самую крышу. Внезапно загорелся свет и стало видно, что все здесь обито темным деревом и развешаны плакаты с выставок Глазунова. Вставив длинный диковинный ключ в маленькую дырочку огромной кованой двери, Нина Александровна с усилием толкнула ее, и мы, перешагнув порог, оказались в музее. Литье, иконы, старинная живопись, мебель, книги поплыли у меня перед глазами. Нина Александровна, не останавливаясь, увлекала нас за собой в глубь мастерской, пока мы не попали через узкий коридор в огромную башню, ту самую, что видно с Нового Арбата высящейся над морем домов подобно Ласточкину Гнезду. Здесь стены от пола до потолка были в иконах, над входом горбатился внушительных размеров резной деревянный наличник с двумя Жар-птицами. Крутая лестница с перилами устремлялась на антресоли к библиотеке с исчезающими в недосягаемой вышине потолка бесконечными полками, забитыми книгами. Голова моя закружилась: словно в сказочном сне, я очутился среди звонящих с антресолей колоколов и колокольцев, пыхтящих самоваров в медалях, выстроившихся на неохватной полке, скрежета мечей, блеска доспехов и ясных ликов древних образов.
— Многие, видя все это, считают Глазунова миллионером, — начала Нина Александровна, смущенно улыбнувшись. — Но мало кто знает, какой кропотливый труд стоит за собиранием его коллекции. Каждый из представленных здесь предметов Илья Сергеевич буквально спасал от уничтожения в своих поездках по России. Эти изумительные сокровища в те времена не только не ценились, но старательно вырывались с корнем повсеместно. Для летней студенческой практики Илья Сергеевич всегда выбирал самые дальние маршруты. Его не тянуло к теплым морям, а влекло на Север, на Волгу, за Урал. Он стремился запастись как можно большим числом впечатлений от России. Весьма плодотворной оказалась поездка в Сибирь. В Минусинске он познакомился с князем Оболенским, с одной очень интересной еврейской четой, со множеством несправедливо осужденных и сосланных людей. Как легендарная Атлантида, поднималась перед ним целая эпоха русской жизни… Когда поженились, стали ездить вместе. Вологодчина, Псковщина, Новгородские земли. И везде — разрушенные церкви, превращенные в лучшем случае в амбары. Иконами шестнадцатого, семнадцатого веков растапливали печи. Вот этот драгоценный Георгий разделял картошку и свеклу в погребе. Вот эта, изумительной работы, резная голова Иоанна Крестителя валялась в куче зерна, ею парни пугали девок… У Ильи Сергеевича главная черта — одержимость. Его как бы заклинивает на чем-то. Бывало, едем от села к селу, колеи, грязь — ужас! Ну, никак нельзя проехать. Ничего! Проедем! И самое интересное, что так и выходило. Случалось, конечно, что и застревали, но он шел пешком, откуда-то доставал трактор… Вот эту огромную икону семнадцатого века, была она тогда, конечно, в ужасном состоянии, он тащил на себе — не нашли ни лошади, ни машины. Какая радость, помню, охватила нас, когда мы ее расчистили — глядим — красота какая! Краски горят! Верно?.. Русский север покорил нас своей сказочной явью, выходящей из самой глубины веков. Однажды мы попали в избу, на стенах которой висели непередаваемой красоты иконы. Хозяйка, старушка, держалась с нами величественно — вроде бы простая крестьянка, а и стать, и манеры врожденной аристократки. Илья Сергеевич не мог оторваться от одной иконы, стал умолять бабушку продать ее нам. Но та — ни в какую. Пять раз уходили, приходили, но так и уехали ни с чем. Правда, оставили бабушке открытку с адресом — вдруг передумает. Но надежды на это было, конечно, очень мало, и Илья Сергеевич сильно переживал. И вдруг, спустя какое-то время, пришло от бабушки письмо: «А дорогие художники! А приезжайте за иконой, которая вам полюбилась. А нас выселяют…» Вот было счастье-то для Ильи Сергеевича! Тут же все бросил и помчался…
Я слушал Нину Александровну затаив дыхание, чувствуя, как день, казавшийся мне только что трагическим, светлеет, обретает для меня огромное, счастливое значение. И не ошибся. В то мое первое посещение квартиры и мастерской Мастера, ставшее для меня как бы посвящением в ученики Учителя, прикосновением к святая святых его житейского и творческого подвига, Илья Сергеевич, внезапно перейдя на «ты», чем как-то сразу приблизил, принял в свое поле, что ли, просто сказал мне:
— Чувствуешь правоту — бейся за нее, отстаивай до последнего. Тебя — в дверь, а ты — в окно! Надо пробиваться. Никто никогда не придет к тебе и не скажет, склонив сконфуженно голову: простите нас, дорогой товарищ Шаньков, мы исправимся, как же это мы вас, такого талантливого, сразу-то не заметили!.. Добрых дядей нет… Купи цветы. Начальник, кто может твой вопрос решить, — женщина. Цветы — не взятка. Очаруй, спляши, романс спой голосом Шаляпина. Если секретарша не будет к шефине пускать — блесни сексуальным обаянием: они все об этом только и мечтают. И потом. Надо себя в порядок привести! Ты себя в зеркале-то видел? Не следует быть угрюмым. Сиять должно! Костюм… Галстук красивый… Надобно очаровывать, запоминаться… Других путей, юноша, нет…
В критическую, тяжелейшую для меня пору Илья Сергеевич не махнул на меня рукой, как на неудачника. Возил в министерство культуры, просил и заступался за меня на всех уровнях, но чиновники, пообещав, так ничего и не сделали. Глазунов, несмотря ни на что, поддержал меня, помог выстоять: разрешил нелегально посещать занятия в мастерской, позволил наравне со студентами приходить к нему домой, пользоваться его библиотекой… Кто был я ему? Родственник? Сын влиятельного знакомого?.. Конечно же, нет. И то, что он принял меня таким, каким я был, не забудется никогда.
Не мне одному подставил свое спасительное плечо Глазунов. Сколько было нас в его жизни, — разочаровавшихся в справедливости, — сотни, а может, тысячи людей разного возраста и рода занятий, поддержанных в беде, а то и безо всякой беды облагодетельствованных его щедростью. Он помогал бескорыстно, даром, надеясь на единственную возможную и желанную отплату: что когда-нибудь хоть кто-то из нас принесет пользу России…