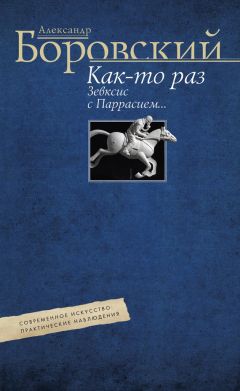Агитационный фарфор: деология, мифология, практика
Агитационный фарфор в собрании Авена представлен с предельной полнотой. Вообще, этот материал многократно описан, существует целая традиция, у истоков которой – современники этого героического периода русского фарфора: тот же Э. Голлербах, В. Охочинский, П. Фрикен, А. Эфрос и Н. Пунин, конечно же Е. Данько. Классичной остается работа Л. Андреевой[67]. В. Толстой, Н. Лобанова-Ростовская, Т. Кудрявцева, Н. Попова, Н. Петрова, Э. Самецкая, молодой, недавно заявивший о себе монографией, посвященной Н. и Е. Данько, В. Левшенков и др. провели огромную работу исследовательски-публикаторского плана. Рискну сказать, что труды Л. Андреевой, сочетающие фактографическую базу, тонкий стилистический анализ и культурологическую широту, повлияли на само направление поиска нашего искусствоведения в сторону скорее знаточескую: казалось, теоретические проблемы раннего советского фарфора, исследованные на безупречном фактографическом фоне, разрешены на долгие времена. К тому же культурно-функциональная природа фарфора была исследована с подобной же полнотой, правда, на материале XVIII века, Н. Сиповской[68]. Вследствие ли этих, как будто «закрывающих» тему в силу своей значительности, исследований, или других обстоятельств знаточеская установка (мотивированная к тому же коллекционерским бумом) в значительной степени возобладала над культурно-интерпретационными практиками. Между тем фарфор – благодарный материал для культуральных и культурно-антропологических подходов, продемонстрированных хотя бы в уже упоминавшейся книге Дж. Челанта «Маленькая Утопия», сопутствовавшей одноименной выставке. Фарфор, особенно агитационный, – идеальный «текстовый ансамбль» (термин Г. Клиффорда), ждущий интерпретаций в этом направлении. Наконец, далеко не исчерпано эстетическое измерение этого материала, постоянно корректируемое и новыми методологиями исследования, и обновляющейся (благодаря, надо отдать должное, все той же знаточеской линии) информационной базой.
Созданную еще в 1920-х годах мифологию советского агитационного искусства (ленинский план монументальной пропаганды в его целостности: монументальная скульптура, «Окна РОСТА», плакат, оформление празднеств, агитпоездов, витрин, знамен и пр.), в которую вполне органично вписывался агитфарфор, представляли как идеальную сцепку поэтики и аксиологии (внехудожественной реальности – идеологических программ и т. д.). Фарфор при этом был эталоном именно синтеза: все другие виды искусства, кроме совсем уж «прикладных», обладали ресурсом саморазвития, накопленного в дореволюционное десятилетие энергии авангардного поиска. Все это, терминологически суммированное в последующие десятилетия как «формализм», могло увести в сторону от конкретики агитационных задач. Фарфор был более «податлив», в его природе был заложен модус готовности к выполнению государственных (дипломатических, политически-репрезентационных и пр., см. об этом у Н. Сиповской) функций. (На другом языке описания этот модус часто определялся как «женственность». Так, тот же Голлербах писал: «Фарфор покорно отдается художнику-декоратору, и от ласковых прикосновений кисти душа его расцветает радостно и ярко». Фарфор с готовностью «отдается» и государству, и эта «государственническая» традиция в России прослеживается с первых его шагов.) Итак, лозунг ложился на фарфор как влитой, предрасположенность к формообразованию в духе новых государственных запросов также была высока. В этом плане снижать романтический пафос этой мифологии агитфарфора было бы несправедливо: это явление органичное, исторически мотивированное, какие бы идеологические декорации ни достраивались post factum. Однако определенная объективизация все же необходима. По вполне понятным идеологическим причинам советское искусствоведение акцентировало уникальность феномена агитфарфора (в качестве предшественника выдвигалась разве что заведомо менее масштабная по художественным интенциям продукция Неверского фарфорового завода времен Великой французской революции). Но по тем же причинам агитфарфор не рассматривался в русле других гипермасштабных проектов по изменению и созданию государственных и политических символов в России.
Фарфор: опыт репрезентации государственной власти
Самым напрашивающимся в этом контексте примером может служить петровская деятельность по регулированию и прямому созданию «символов и эмблемат» новой империи. Она носила тотальный характер и, проникая «вглубь» тогдашней жизни, утверждалась на самых разных носителях: от архитектурного декора до эфемерии фейерверка (фарфор, естественно, в число этих носителей еще не входил. Хотя отблеск – хотя бы в прямом смысле, тогда возьмем фейерверк – этого проекта ложится и на ряд произведений агитфарфора, например тарелку 1921 года Кобылецкой, в которой лозунг как будто высвечен пиротехнически, гирляндами огней). Каждое царствование вносило свои коррективы в визуальную репрезентацию государства, иногда – весьма существенные в стилистическом плане (эпоха Александра III), и Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) не стоял в стороне. Даже невыразительное и стилистически эклектичное царствование Николая II, воспользовавшись 300-летним юбилеем династии, пришедшимся на весну 1913 года, разработало собственную программу. Требования триумфальности сочетались здесь с подспудной темой легитимизации, преследующей это правление. Выбор репрезентации был несложен, современный исследователь удачно обозначил подобную установку как «визуальное народоведение»[69]: обилие этнических типов народов, населяющих империю, само по себе свидетельствовало об ее величии. Программа визуального народоведения была достаточно разветвленной и включала этнографическую съемку, многочисленные издания соответствующего типа, горельефный фриз В. Богатырева и М. Харламова, изображающий народы, населяющие империю, в Мраморном зале Российского музея этнографии (тогда – Этнографический отдел Русского музея императора Александра III). ИФЗ «ответил» 152 фигурами (скульптор П. Каменский) представителей народов России. Они показаны вне жанровой подоплеки («схвачены» не в момент исполнения фольклорных хороводов или работы на промыслах, а как бы демонстрирующими себя, предъявляющими себя инстанции власти). Это именно репрезентаторы – обилия этносов, их достатка, лояльности, удовлетворенности мироустройством. (Немудрено, что установка визуального народоведения пришлась и к сталинскому двору: «юбилейные» фигуры ИФЗ неоднократно повторялись, «Народы России», собственно уже СССР, прирастали новыми, специально созданными скульптурами.) «Визуальное народоведение» было, пожалуй, только частью системы визуальной репрезентации государства и власти. Оно, несомненно, имело символическую составляющую, но «материально-изобразительный» план с его наглядностью, осязательностью, дидактичностью, скрытой повествовательностью играл едва ли не самостоятельную роль. Большая же часть этой репрезентации обычно разворачивалась в пространстве символическом и оперировало тропами – иносказаниями типа аллегорий и символов, системами знаков (знамена, форма и пр.). В мирное время визуальная репрезентация господствующей власти корректировалась с точки зрения новых идей (иногда, как в петровское время, весьма радикально) и изменений стилевого плана, но не подлежала уничтожению. В революционный период нередко возникает борьба политических символов, своего рода перетягивание каната власти. Но когда сильнейшие побеждают, они утверждают (или возрождают) собственную политическую символику. В России империя рухнула неожиданно и мгновенно. Так что борьбы символов (как это было на всем протяжении революционного движения в царской России) практически не было. Даже впоследствии, в период Гражданской войны, в белых армиях всячески избегали использовать имперские символы в их классическом виде: аффектированная старорежимность не была козырем в политической пропаганде. Так что В. Маяковский в стихотворении, написанном немногим больше месяца после отречения Николая II (а именно, 17 апреля 1917 г.), искусственно драматизирует перипетии этой «борьбы символов»: «…оттуда, / где режется небо / дворцов иззубленной линией, / взлетел, / простерся орел самодержца, / черней, чем раньше, / злей, / орлинее. <…> Штыков зубами вгрызлась в двуглавое / орла императорского черное тело».
Символоборчество и символотворчество
Старая символика рухнула вместе с государством. Она с особым азартом уничтожалась снизу, стихийно. Заступников практически не было. «Я так боялся, что останется династия. <…> Видел, как везде сбивали царские гербы», – это не Маяковский писал, Сомов[70]. После Февральской революции активно развивалась «народная геральдика». В ее основе лежала символика революционного подполья. Особенно активно «низовое символотворчество» развивалось в знаменном деле: воинские части, профсоюзы, районные советы создавали собственные знамена и транспаранты. Лозунги диктовались «повесткой дня», символика была старой, революционно-демократической (об этом – ниже). Изобразительные решения, как правило, непрофессиональны – повествовательны, композиционно перегружены. Если говорить о ситуации «сверху», то Временное правительство как-то тормозило с централизованным символотворчеством. Орел оставался государственным гербом, правда, без императорских атрибутов. Получив в наследие традиционную революционную символику, Временное правительство использование ее во многом отдало на самотек, «низам». Само же не смогло управиться с ней эффективно. Символическое для власти постоянно переходило в практическое поле: развитие событий (хотя бы на фронте) требовало защитительной полемики по поводу старых символов (знаки отличия, погоны, военная иерархия и пр.). Уступки были безоговорочны, старые символические и иерархические формы отстоять не удавалось (хотя их мобилизационную и дисциплинирующую функции пришедшие к власти люди вполне понимали). В глазах же прогрессистской общественности сама постановка вопроса о целесообразности немедленного слома всех элементов символической репрезентационной системы воспринималась как заигрывание со старорежимным. Взаимоотношения с символикой революционного подполья также складывались непросто. Возможно, здесь «февралистов» подводила либерально-демократическая закваска: слишком уж риторика и символика, доставшаяся во многом еще от «Народной воли», была традиционно агрессивна. Все-таки одно дело «эй, дубинушка, ухнем» как метафорика, другое – как государственный лозунг. Реальные кровавые эксцессы, которым подвергались со стороны революционных масс офицеры, и так преследовали сознание «временных»… Большевики уже в дооктябрьский период наращивали мощь старого оружия революционной пропаганды, превращения революционных метафор в реалии междоусобной борьбы нисколько не боялись. Побеждающие политические силы (большевики и левые эсеры) постепенно забирают у Временного правительства власть и революционные символику и ритуалы. Это процесс, большевики, перетягивая на свою сторону революционные лозунги и символы, вели игру беспроигрышно: в глазах общественности речь шла об углублении революции. Наконец Октябрьский переворот происходит, старореволюционная политическая символика (с ее несомненным, завоеванным поколениями борцов с царизмом, авторитетом) апроприирована полностью, ее элементы начинают временно выполнять функции государственной геральдики. Это была большая символическая победа большевиков. Но какова связь всего этого с агитационным фарфором?