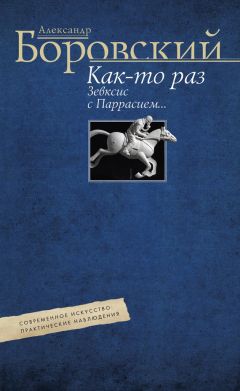Символоборчество и символотворчество
Старая символика рухнула вместе с государством. Она с особым азартом уничтожалась снизу, стихийно. Заступников практически не было. «Я так боялся, что останется династия. <…> Видел, как везде сбивали царские гербы», – это не Маяковский писал, Сомов[70]. После Февральской революции активно развивалась «народная геральдика». В ее основе лежала символика революционного подполья. Особенно активно «низовое символотворчество» развивалось в знаменном деле: воинские части, профсоюзы, районные советы создавали собственные знамена и транспаранты. Лозунги диктовались «повесткой дня», символика была старой, революционно-демократической (об этом – ниже). Изобразительные решения, как правило, непрофессиональны – повествовательны, композиционно перегружены. Если говорить о ситуации «сверху», то Временное правительство как-то тормозило с централизованным символотворчеством. Орел оставался государственным гербом, правда, без императорских атрибутов. Получив в наследие традиционную революционную символику, Временное правительство использование ее во многом отдало на самотек, «низам». Само же не смогло управиться с ней эффективно. Символическое для власти постоянно переходило в практическое поле: развитие событий (хотя бы на фронте) требовало защитительной полемики по поводу старых символов (знаки отличия, погоны, военная иерархия и пр.). Уступки были безоговорочны, старые символические и иерархические формы отстоять не удавалось (хотя их мобилизационную и дисциплинирующую функции пришедшие к власти люди вполне понимали). В глазах же прогрессистской общественности сама постановка вопроса о целесообразности немедленного слома всех элементов символической репрезентационной системы воспринималась как заигрывание со старорежимным. Взаимоотношения с символикой революционного подполья также складывались непросто. Возможно, здесь «февралистов» подводила либерально-демократическая закваска: слишком уж риторика и символика, доставшаяся во многом еще от «Народной воли», была традиционно агрессивна. Все-таки одно дело «эй, дубинушка, ухнем» как метафорика, другое – как государственный лозунг. Реальные кровавые эксцессы, которым подвергались со стороны революционных масс офицеры, и так преследовали сознание «временных»… Большевики уже в дооктябрьский период наращивали мощь старого оружия революционной пропаганды, превращения революционных метафор в реалии междоусобной борьбы нисколько не боялись. Побеждающие политические силы (большевики и левые эсеры) постепенно забирают у Временного правительства власть и революционные символику и ритуалы. Это процесс, большевики, перетягивая на свою сторону революционные лозунги и символы, вели игру беспроигрышно: в глазах общественности речь шла об углублении революции. Наконец Октябрьский переворот происходит, старореволюционная политическая символика (с ее несомненным, завоеванным поколениями борцов с царизмом, авторитетом) апроприирована полностью, ее элементы начинают временно выполнять функции государственной геральдики. Это была большая символическая победа большевиков. Но какова связь всего этого с агитационным фарфором?
Все вышесказанное вовсе не направлено на подрыв мифологии агитфарфора как выражения революционной энергии. Просто некоторые уточнения позволят объективнее прочесть заключенный в нем исторический месседж.
Первое уточнение связано с историей визуальной репрезентации государства. Опыт участия в подобных проектах (пусть не столь масштабных), как мы убедились, у императорского фарфора был. Были и руководители, способные, хотя бы в силу достаточной исторической культуры, подсказывающей ряд прецедентов, отрефлексировать задачи коллектива: что, собственно, хочет от производства новая власть? На это накладывались и определенные художественные амбиции. Чехонин, Вильде и др. едва ли обладали революционным радикализмом Маяковского и ряда «левых»: «Моя революция». И уж наверное не обладали, подобно лидерам авангарда, совершенно наивными, как это показала история, претензиями поучаствовать – чуть ли не на равных с Советской властью – во всемирноисторических процессах жизнестроительства. Но попробовать – почему бы нет – осуществить давнюю мечту (ее лелеяла хотя бы такая неконъюнктурная художница, как Н. Гончарова) получить государственную поддержку своему художеству без казенных институциональных обязательств, «на чистой идее»? Думаю, такова была психология организаторов раннесоветского фарфорового дела, по крайней мере С. Чехонина.
Второе уточнение исторического порядка. Итак, уже в Феврале полностью победила революционная символика. Царская последовательно уничтожалась. Новая не изобреталась «в боях Революции и Гражданской войны»: она в течение десятилетий разрабатывалась российской революционно-демократической интеллигенцией. Автор интересной книги о политической символике Февральской революции пишет о «развитой политической субкультуре революционного подполья», которая «включала целую систему ритуалов, традиций, символов, играющих важную роль в воспроизводстве структур революционного подполья, постоянно возрождавшихся, несмотря на все полицейские преследования»[71]. Она-то и разработала визуальную репрезентацию революционного движения. Добавим: если речь идет о визуальных символах, то не только о «субкультуре подполья». «Революционные символы» в разной визуальной трактовке присутствовали не только в нелегальной, но и в подцензурной демократической печати.
Коллекция агитфарфора Петра Авена включает практически полный корпус революционных символов. Их не так много: красный флаг, серп, молот, цепь, сноп, шестеренка, щит, лукошко, рукопожатие, восходящее солнце. Заводские трубы – этот мотив, эмблематизированный в фарфоре Н. Альтманом, Р. Вильде, И. Школьником, также отработан революционно-демократической традицией. Он встречается не только в графике революционных журналов революции 1905 года (И. Грабовский и др.), но даже в монументальном искусстве (мозаика С. Шелкового по фасаду доходного дома герцога Н. Лейхтенбергского в Санкт-Петербурге (ул. Б. Зеленина, 28, арх. фон Постельс). Встречается и религиозная иконография, соответствующим образом трансформированная: Георгий Победоносец, Ангел, Храм, Горний Град, иконные горки (в собрании Петра Авена – тарелка с росписью А. Голенкиной), Башня (в нескольких базисных толкованиях) и др. Я бы добавил в этот ряд изображения цветов, чрезвычайно распространенных в агитфарфоре. Обычно цветы в этот символический ряд не ставятся: «живопись цветов и фруктов» на все времена. При чем здесь революционная символика? Скорее уж цветочные мотивы стоит рассматривать в ракурсе индивидуальной стилистики конкретных авторов (так, Л. Андреева дает виртуозный стилистический анализ эволюции «цветочного стиля» Чехонина). Мне все же хотелось бы обратить внимание на момент, который может показаться парадоксальным: символический подтекст изображения цветов, связанный с революционно-демократической литературной и песенной традицией. Дело в том, что даже большая поэзия вводила тему цветов в социальный контекст: «Сытые» в одноименном стихотворении А. Блока «скучали и не жили, / И мяли белые цветы». Но особенно настойчиво действовали в направлении «социализации» цветочного мотива «пролетарские поэты». Малоизвестные по отдельности, в совокупности они транслировали месседж, существенно влиявший на сознание широких кругов политизированных современников. В их лирике образ цветов приобретал самые разнообразные коннотации. Так, Е. Тарасов обращается к цветку, принесенному к нему, узнику, в темницу, как к товарищу по несчастью: «Цветы побледнели от боли. Прощайте. Усните. Мне нечем помочь: Я – пленник. Я тоже в неволе».
А. Боровиковский также находит цветы «среди цепей»: «От жизни, от надежд, заброшен ключ от двери, / И там среди цепей он отыскал цветы / В сердцах людей, людьми отвергнутых, как звери». Цветы узникам, цветы на могилу героев-революционеров, гирлянды, венки, венчики – образы-топосы нехитрой русской пролетарской поэзии предреволюционных и революционных времен (впрочем, готовые мигрировать в сферу высокой художественности – вспомним блоковское: «в белом венчике из роз»…). Таким образом, цветы воспринимались массовым сознанием не только как декоративный мотив. Иначе соседство лозунгов и революционных символов с бесконечными цветочными композициями выглядело бы искусственным. Для сознания же художественного существовал еще один, более «ученый» аспект: опыт декорирования празднеств Французской революции гирляндами цветов. А также роль цветочных орнаментов и гирлянд в декорациях ампира. Но, конечно, топосы пролетарской поэзии, укорененные в массовом сознании, есть тот трудноуловимый феномен субъективной реальности, который стоит иметь в виду, стремясь к более объемному пониманию такого явления, как агитфорфор.