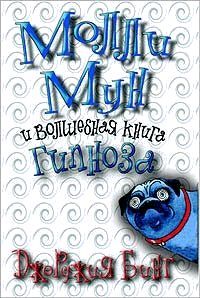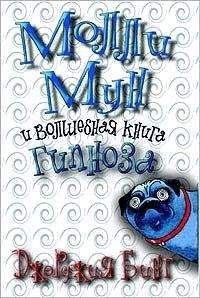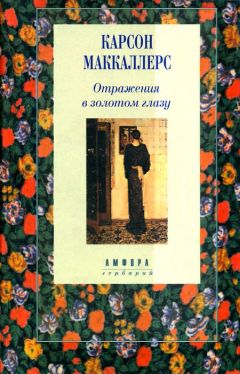ДЖОН: Четвертый - очень аристократично. Я улавливаю.
МОЛЛИ: Филипп стоял голый у окна - луч утреннего солнца на его тело - и мы говорили о Париже, о том, как мы собирались туда поехать. Я думала, что здорово было бы поехать за границу и избавиться от Мамы Лавджой.
ДЖОН: Это можно понять.
МОЛЛИ: Когда я смотрела на Филиппа, стоящего в лучах солнца у окна, - меня вдруг захватило невероятное ощущение, - блаженство - неуловимое, призрачное - и, почувствовав его, я воскликнула: "Филипп!" Филипп обернулся, и я сказала: "Филипп, кто бы не родился, мальчик или девочка, назовем его Парис, Филипп пристально посмотрел на меня и спросил: "Что?"
ДЖОН: Законный вопрос.
МОЛЛИ: Но поскольку речь зашла об имени моего ребенка, сердце матери оскорбилось.
Слышны звуки гитары. Входит Мама Лавджой.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Парис учится играть на гитаре.
МОЛЛИ: Без всякой системы.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Я слышу. Слуха у него нет. Насколько я понимаю. Во всяком случае, если сравнивать с Падеревским. Как сейчас помню Падеревского. Мы вместе с мисс Бёди Граймс ездили в Атланту слушать его игру. Бёди Граймс и еще восемнадцать девушек. Мы остановились в Генри Клей-отеле на один день, все в одной комнате.
ДЖОН: Любопытное, должно быть, было зрелище.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Я очень люблю поляков, особенно аристократов, а Падеревский из их числа. Очень эффектный мужчина, и такой изящный. Он пожал руку всем восемнадцати ученицам, как, впрочем, и трем тысячам на концерте. Он носил крохотный меховой воротничок. Когда Падеревский бывал в Атланте, я каждый раз ездила его слушать. Именно на концерте Падеревского, после того, как я вышла замуж, начался Филипп.
ДЖОН: То есть как?
МАМА ЛАВДЖОЙ: Я слушала концерт, знаете, ту часть, что начинается с дум-да-дум. Я была на пятом месяце. И вдруг я поняла.
ДЖОН: Что?
МАМА ЛАВДЖОЙ: Поняла, что мой ребенок будет величайшим гением. Такое предчувствие - тяжкое бремя для матери. Когда я ждала Лорину, меня просто тошнило. Вот какое значение имеет дородовый период.
МОЛЛИ: Где Сестрица?
МАМА ЛАВДЖОЙ: Вот именно, где Сестрица? Сидит унылая, уткнувшись в книгу. Если бы она меньше утомляла глаза, ей не пришлось бы носить эти безобразные очки. Приросла к книге. Лорина Лавджой - залежалый товар.
МОЛЛИ: Что вы имеете в виду?
МАМА ЛАВДЖОЙ: Твой отец был лавочником - должна знать. Вещи, которые трудно продать. Галантерейная лавка была ими забита. От жевательного табака до ночных горшков. Сама лавка была залежалым товаром. Неудивительно, что твой отец обанкротился. Армейский гарнизон в Ли раскупил по дешевке залежалый товар, кроме Лорины.
Входит Филипп, неся яблочную водку.
ФИЛИПП: Нашел. Кто-нибудь хочет выпить.
МОЛЛИ: Обед почти готов.
Выходит. Мама Лавджой продолжает говорить.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Я остановила свой выбор на генерале Слейде, который открыл бал котильоном и, по слухам, мог съесть одиннадцать порций жареного цыпленка. Что стало с моими мечтами? Армия открывает перед женщиной огромные перспективы. Но Лорина позволила ей пройти мимо.
ФИЛИПП (поглощая выпивку): Оставь Сестрицу в покое.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Ты прекрасно знаешь, что я никогда не была деспотом.
ФИЛИПП: Прекрасно знаю!
МАМА ЛАВДЖОЙ: Я позволяла детям жить собственной жизнью. Сначала, правда, я хотела, чтобы ты стал президентом, но потом удовлетворилась тем, что ты -гений.
ФИЛИПП: Думаю, из меня вышел бы непрактичный президент.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Что касается Сестрицы, то я хотела, чтобы она стала петь в опере. Я сказала: "Сестра, я буду счастлива, если ты споешь в Метрополитен-опера". Но разве она захотела петь в Метрополитен-опера?
ФИЛИПП: Оставь ее в покое, мама.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Разочаровавшись с оперой, я сказала: "Ну, хорошо, мисс, резвитесь, порхайте". Но она и этого не захотела.
ФИЛИПП: Она не может, мама.
МАМА ЛАВДЖОЙ (Обращаясь к Джону): Почему она не захотела?
ДЖОН: Не знаю, миссис Лавджой.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Вот так-то, сударь. Горе одно. (Уходит наверх).
ФИЛИПП: Такер, пока мы одни, хочу вам сказать, что рад, что вы поняли Молли. Она особенная, ей нужен особенный человек в особенное время.
ДЖОН: Зачем вы мне это говорите, Лавджой?
ФИЛИПП: Затем, что хочу, чтобы вы поняли Молли. Она поэт.
ДЖОН: Поэт?
ФИЛИПП: Вы, верно, заметили, что все вокруг нее полно поэзии? Чистота, гармония. Огонь - это и есть поэзия. Это и есть Молли.
Она чиста, как стакан воды, и гармонична, как церковный орган. Вечерняя звезда не так светла, как Молли. Вам нравится писать стихи, Такер?
ДЖОН: Я не писал стихов.
ФИЛИПП: Вы заметили, что в глупостях Молли есть своя логика? Та non
sequitur, через которую выражается сущность. Поэтическая амбивалентность.
ДЖОН: Что значит амбивалентность?
ФИЛИПП: Ну, когда жара и холод соединяются вместе. Сладкое и горькое.
ДЖОН: Вы и стихи пишете?
ФИЛИПП: Все пишут стихи, когда влюблены.
ДЖОН: Возможно, но я не писал. В детстве, правда, пробовал, но когда строчка заканчивалась словом "любовь", следующей рифмой всегда была "кровь". Банальность.
ФИЛИПП: А вот в Молли нет ничего банального, и это в ней самое главное. Только поэзия и понимание. Этой ночью, когда мы лежали с ней в постели...
ДЖОН: Молли спала с вами этой ночью?
ФИЛИПП: Да, Молли никогда меня не бросит.
ДЖОН: Почему вы так уверены?
ФИЛИПП: Потому, что я слаб; поэтому и уверен.
ДЖОН: Не встречал еще человека, если он только не ублюдок, который гордился бы своей слабостью.
ФИЛИПП: Я не горжусь ею. Просто пользуюсь.
ДЖОН (зовет): Молли.
Входит Молли.
ДЖОН: Это правда, Молли?
МОЛЛИ: Что правда?
ДЖОН: Филипп сказал, что этой ночью ты приходила к нему.
ФИЛИПП: Отвечай, Молли. Тебя спрашивают.
МОЛЛИ: Если бы я сделала что-то, чего стыдилась, ты бы простил меня? Например, напилась перед этим?
ФИЛИПП: Ты не пьешь.
МОЛЛИ: Или наглоталась наркотиков или еще чего-нибудь в этом роде? Ты бы смог простить?
ДЖОН: Нет
МОЛЛИ: А если бы я сказала тебе, что пока мы вместе, это больше никогда не повторится, - ты бы мне поверил?
ДЖОН: Нет. Зачем ты это сделала? Ты по-прежнему его любишь?
МОЛЛИ: Нет.
ДЖОН: Значит, просто жалость.
МОЛЛИ: "Просто" - неподходящее слово для жалости. То же самое, что сказать "просто еда", "просто Бог". И какими бы ни были мои чувства к Филиппу, ничтожными они не были. Но теперь все кончилось. Не веришь? Не можешь простить?
ДЖОН: С тобой, Молли, если уж выбирать, лучше быть нечестным и оставаться самим собой, чем безумно счастливым. Когда, наконец, у тебя будет достаточно сил, чтобы полюбить сильного?
МОЛЛИ: Когда я смотрю на тебя, я сильная.
ДЖОН: Когда я смотрю на тебя, я в этом не уверен.
(Выходит).
МОЛЛИ: Я хочу уйти с ним.
ФИЛИПП: Не советую.
Молли выходит вслед за Джоном. МАМА ЛАВДЖОЙ спускается по лестнице в панаме и перчатках. Она поет.
МАМА ЛАВДЖОЙ: "Я сегодня бродил по горам, моя Мегги". (Смотрит на Филиппа). Что это ты так уставился? Все лицо перекосило. Сынок, что случилось?
ФИЛИПП: Мама, приходилось ли тебе когда-нибудь, мучаясь и чувствуя пронзительный стыд или страшное смущение, подсознательно произносить чье-либо имя? Приходилось бы тебе в глубине души, без слов, взывать к кому-нибудь о помощи?
МАМА ЛАВДЖОЙ: К кому это мне прикажете взывать?
ФИЛИПП: Не знаю. Ну, хотя бы к моему отцу.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Твой отец давно для меня умер. Но со мной такое случалось. Однажды мы с Патрицией Фленей обсуждали платье, и я глядела на занавеску в швейной мастерской, как вдруг занавеску вздуло ветром, и у меня мурашки побежали по телу. Мне показалось, что я уже видела эту вздувшуюся от ветра занавеску, и слышала голос Патриции Фленей: "Крои по косой, Офелия". Те же слова, та же занавеска, тот же ветер.
ФИЛИПП: Это deja vu, аберрация памяти.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Меня передернуло.
ФИЛИПП: Аберрация памяти.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Ты был трудным ребенком, Филипп. Одиннадцатимесячный малыш лежал во мне и брыкался, а я сходила с ума от нетерпения.
ФИЛИПП: Я не хотел рождаться. Я уже тогда боялся.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Ничего подобного! Ты начал ползать раньше других, ходить раньше других, говорить раньше других. Когда тебе было полтора года, ты взял американский флаг, и промаршировал вокруг дома, распевая "Марсельезу": "Вставай, поднимайся, рабочий народ!..."
ФИЛИПП: Довольно, мама.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Удивительное зрелище! Малютка в ползунках распевает "Марсельезу" и марширует вокруг дома. Я никогда не могла понять, что на тебя находило, да и теперь не знаю, что с тобой происходит.
ФИЛИПП: Ничего, мама. Ничего.
МАМА ЛАВДЖОЙ: Ты не единственный, кто страдает. Когда твой отец от нас сбежал, для меня настали тяжелые времена. Оправившись от удара, я снова взялась за иглу. Шила крестильные рубашки, бальные платья, праздничные костюмы, саваны. Иногда приходилось шить целый день. За шитьем я пела: