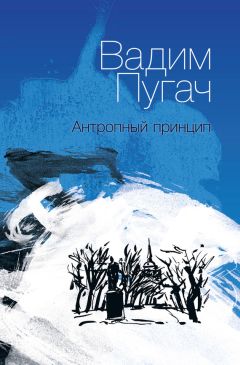Ознакомительная версия.
«Ночь, как разбитое стекло…»
Ночь, как разбитое стекло,
Прозрачна и остра по слому.
Я не умею жить светло,
По-доброму. Давай по-злому.
Кому не пожелаешь благ?
А шепот внутренний невнятен,
И в стенку влипнувший кулак
Почти не оставляет вмятин.
О, как я стану нарочит,
Зело любезен и приятен.
Пускай рукав кровоточит,
А кровь не оставляет пятен.
Пусть будет диалог остер.
Сымпровизируем на рыбу
Втроем – актриса, и актер,
И кровь, бегущая по сгибу.
Какая чистая стена!
Все выльется в игру и дрему.
Нет слов. И пауза длинна,
Прозрачна и остра по слому.
«Я дождался августовских звезд…»
Я дождался августовских звезд
И не ощутил знакомой дрожи.
Но, должно быть, в вынужденный пост
Хлебово чем жиже, тем дороже.
Что ж, перешибай меня соплей
И глуши меня, как рыбу, толом,
Только между небом и землей,
А не между потолком и полом.
Я дождался дорогих гостей,
И не подвели. И не подвяли
Эти, как их, шляпки от гвоздей,
Соль вселенной, лампочки в подвале.
«Нахохлившись, что твой орангутан…»
Нахохлившись, что твой орангутан,
Смотрю, как торт щетинится свечами,
И вижу недуховными очами
Цветущий, точно молодость, каштан.
Не мне его стереть или стеречь
На городском поганом перегное,
А что до лет, из них очередное
Дохнет на свечи – и не станет свеч.
Иду к каштану, будто к рубежу,
А он себе томится, прозревая.
Я тоже застываю, прозревая:
Наверно, я ему принадлежу.
Когда листва пронизывает стих,
Поэзию не принимая на дух,
Я вижу в этих взрывах и каскадах
Кого люблю – товарищей моих.
Мои друзья теряют во плоти,
Как, в общем, все, что тянется и длится.
Их милые измученные лица
Становятся бесплотными почти.
Зато душа, как дерево, поет,
И, напрягая связки книг и файлов,
Мы входим в вечность. Тесно. Свидригайлов
Нам веники с улыбкой раздает.
«Не богом, но хирургом Баллюзеком…»
Не богом, но хирургом Баллюзеком
Я излечен и жить определен.
Сорокалетним лысым человеком,
Казалось мне, он был уже с пелен.
С глубокими смешливыми глазами,
С какой-то синеватой сединой, —
И только так, как будто и с годами
Принять не может внешности иной.
За переборкой умирала дева, —
Бескровная, но губы как коралл, —
Итак, она лежала справа. Слева
Синюшный мальчик тоже умирал.
Я наотрез отказывался сгинуть,
Вцеплялся в жизнь, впивался, как пчела,
Пока она меня пыталась скинуть,
Смахнуть, стряхнуть, как крошки со стола.
Я не хотел ни смешиваться с дерном,
Ни подпирать условный пьедестал
И, полежав под скальпелем проворным,
Пусть не бессмертным, но бессрочным стал.
И, уличенный в некрасивых шашнях
С единственной, кому не изменю,
Я предал всех. Я предал их, тогдашних.
Я всех их предал слову, как огню.
И если мы обуглены по краю,
То изнутри, из глубины листа,
Я говорю, горю и не сгораю
Неопалимей всякого куста.
…Вновь я пошутил, —
Когда я так начну стихотворенье
И смеха не услышу ниоткуда;
Когда, встречая забастовкой кризис,
Оркестр моих карманных музыкантов
Ни шелеста, ни звона не издаст,
А звон в ушах и шелест мертвых листьев
Мне ни о чем не будут говорить;
Когда мои глухие заклинанья
На Музу не подействуют ничуть,
Но, брови изумленные подняв,
Она скривит презрительные губы;
Когда поднимут бунт ученички,
И я без удивленья обнаружу:
Легко бы подавил, но не хочу;
Когда я не увижу в дочерях
Хотя бы призрачного отраженья,
И то, что называется семьей,
По семечку рассеется в пространствах;
Когда друзья не то что отвернутся,
Но позвонят и скажут: мы с тобою, —
Зато изящно отвернется та,
Которая всего необходимей,
Тогда, Господь, не посылай мне смерти,
А вышли ангела вперед себя.
Мы встретимся с ним ночью у реки.
Я, может быть, себе сломаю ногу
Иль вывихну бедро, осознавая
Классическую истину строки:
Еще далеко мне до патриарха…
«На бескрайних пространствах дивана…»
На бескрайних пространствах дивана
Вспоминаю: был я заснят
Там, где лысые горы Ливана
Галилейскую зелень теснят.
И от смертной тоски и веселья
Со скалы скорее – кувырк.
Купол неба, арена ущелья,
Я, веревка, публика. Цирк.
И в разомкнутой временем раме
Нарисована ниточка птиц —
Не граница между мирами,
Отрицанье всяких границ.
В зависании этого сорта
Только ты зависим и свят,
У тебя метафора стерта
До того, что ноги кровят;
До того, что в полуполете
Опустившись, ты до штанов
Утопаешь в черном помете
Пары маленьких горных слонов[1];
До того, что помнишь, как обмер
Или ожил – после того,
И да здравствуют Фрэнсис Макомбер
И недолгое счастье его.
Здесь потусторонние лица,
И нам не понять их «байот»[2].
Одна иностранная птица
Об этом на кровле поет.
У каждого койка и пайка
В обещанном южном краю.
Начнется сейчас угадайка —
Узнай-ка меж этих свою.
Узнай-ка. Узнаешь? И если
Узнаешь, закусишь губу.
Кого подкатили на кресле?
Что? – бабушку или судьбу?
Что это – на автопилоте
Живущий всему вопреки
Комочек забывшейся плоти,
Тире посредине строки?
Что это – обмылок, огарок,
Осадок, обугливший дно?
От черных твоих санитарок
В глазах горячо и темно.
Но я позабуду о черных,
Скользящих, как тень по листу,
Увидев в глазах твоих – зернах,
Проросших насквозь слепоту,
Еще в полумраке, тумане,
В болтанке воды и земли
Единственное пониманье,
К которому оба пришли.
«В мой некошерный дом пришел раввин…»
В мой некошерный дом пришел раввин.
Он прибивал мезузу[3], ел орехи,
Как будто этим искупал один
Все наши преступленья и огрехи.
Он водку пил; смеялся так светло;
Он так по-детски не скрывал оскала;
Из глаз его, прозрачных, как стекло,
Такою безмятежностью плескало;
Он так неколебимо знал закон,
Он так был чист, как только что из колбы,
И если б я таким же был, как он,
То на версту к стихам не подошел бы.
«Я ходил по Каирскому базару…»
Я ходил по Каирскому базару,
Приценивался к ненужным вещам,
Говорил с арабами по-английски,
А они мне по-русски отвечали.
Общего в этих языках было только,
Что мы их ломали немилосердно.
Есть у меня ученик – Ломаев Вова,
Я прозвал его Существовочкой за успехи.
Он ходил по тому же базару,
Покупал каркаде и сласти,
Барабаны, папирусы, фески,
А я за ним наблюдал на расстоянье.
Он пришел к автобусу последним,
Изо рта торчала шоколадка.
И тогда я взмолился не на шутку.
Но кому? Амону или Хапи?
Может быть, единственному богу,
Что отсюда мой народ вывел?
Иногда, купаясь в Красном море,
Думал я: а что, когда решит он
Вывести меня из Египта?
Расступится Красное море
(Видимо, это произойдет внезапно),
Упаду я на дно морское,
Ударюсь, потеряю сознанье,
Пролежу, пока воды не сойдутся.
Так вот, говорю я, тогда взмолился:
«Господи, не дай мне быть туристом,
Торгующимся на базарах,
Покупающим ненужные вещи,
Проверяющим по рекламному проспекту,
Все ли мне досталось в этой жизни».
Утрачивая облик, имя,
Лишаясь центра и ядра,
Я шел по лестнице. Я в Риме
Взбирался на собор Петра.
Я чувствовал себя довеском,
С любой ступенькой наравне,
Карабкаясь наверх по фрескам —
По их обратной стороне.
Я шел по куполу. Над ним бы
Кружить не мне и никому,
Но ниже остаются нимбы,
Иные силы на кону.
Дав отдых нывшему колену,
Облокотившись тяжело
На убегающую стену,
Я натолкнулся на крыло.
Когда же из предвечной пыли
Уже на самый верх проник,
Вопрос мне задал: «Это вы ли?» —
Летящий рядом ученик.
На высоте, которой нету,
Уже дыша, еще гния,
Я зван и избран был к ответу:
«Галлюцинация, не я».
Зато одышка, боль в колене,
Крыло, застрявшее в стене, —
Поверх пустых определений
И впрямь принадлежали мне.
Сняв очки, иду по парку.
Я спокоен. Не бурлю.
Узнаю ворон по карку,
Зяблика – по тюрлюрлю.
Зяблик, что меня морочишь,
Распаляясь добела?
То ли дождик ты пророчишь,
То ль подруга не дала?
Что ж ты так однообразно
Запускаешь пузыри?
Если празднуешь, то празднуй,
Если хочешь смерти – мри.
Жизнь расписана под Палех —
Красный лак и черный лак.
Что же ты во всех деталях
Так совпал со мной, дурак?
«О, вечерних кузнечиков вереск…»
Ознакомительная версия.