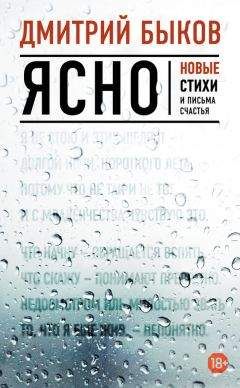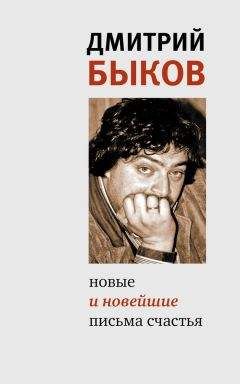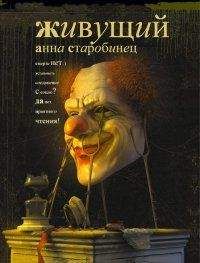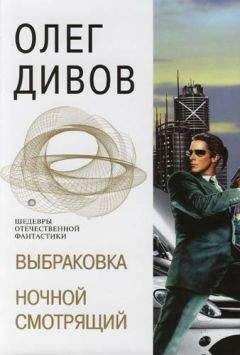Восточная
О, как много у тебя родинок,
Как цвет их черен,
Порошинок, мушек, смородинок,
Маковых зерен!
Я в темноте губами зрячими
К ним припадаю,
Я, как по звездам ночами дачными,
По ним гадаю.
Подобно древней волшебной Персии
Или Китаю,
Свою судьбу в упрощенной версии
По ним читаю.
О, как много существ мифических
В цветах и листьях,
Таких небывших, таких языческих,
Таких лилитских!
Созвездья неба, какого не было
На картах НАСА:
Лук – не дианин, лира – не фебова,
Чаша – не наша!
Пахучий, влажный, с другими звездами
Над чуждой дачей —
Мир дикий, юный, только что созданный,
Еще горячий.
И что мне видно по ним, еврею,
Жрецу, халдею?
Я знаю сам, что я постарею,
Похолодею,
В линии лиры, в изгибе лука,
В бегущем звере
Читается вечная разлука
По меньшей мере.
О чуждой юности, о горькой бренности
Я весть читаю
И пыткой зависти, пыткой ревности
Себя пытаю.
Но разве не о той же бренности,
Что сна короче,
Мне шепчут тусклые драгоценности
Московской ночи?
Короче сна, короче полудня,
Короче лета —
И мне не страшно, мне не холодно
Смотреть на это.
К Водолею тянусь, к Цефею,
К черному раю,
Хотя и знаю, что старею
И умираю.
Из цикла «Декларация независимости»
Закрылось все, где я когда-то
Не счастлив, нет, но жив бывал:
Закрылся книжный возле МХАТа
И на Остоженке «Привал»,
Закрылись «Общая», «Столица»,
«Литва» в Москве, «Кристалл» в Крыму,
Чтоб ни во что не превратиться
И не достаться никому,
Закрылись «Сити», «Пилорама»,
Аптека, улица, страна.
Открылся глаз. Открылась рана.
Открылась бездна, звезд полна.
2. «К себе серьезно я не отношусь…»
К себе серьезно я не отношусь,
Я не ахти какая птица.
Две жизни, две ноги, пять чувств —
К чему мне там серьезно относиться?
Не жду чудес от участи земной:
Смеяться – скучно, плакать – поздно;
Но нечто есть – во мне, при мне, за мной, —
К чему я отношусь серьезно.
Ему порукой – ангельская рать
И все подземное богатство.
Поэтому сейчас ты будешь умирать,
А я – смотреть и улыбаться.
3. «Что ни напишешь – выходит все тот же я…»
Что ни напишешь – выходит все тот же я,
Тема, голос, походка, слово.
В Курске устали от курского соловья.
Хочется им другого —
Харьковского, сумского.
Как бы себя растворить, как солевой кристалл,
В первой встречной, в речи, в реке, в пейзаже?
Первую половину жизни себя искал,
Всю вторую прятался от себя же.
4. «Не для того, чтоб ярче проблистать…»
Не для того, чтоб ярче проблистать
Иль пару сундуков оставить детям —
Жить надо так, чтоб до смерти устать,
И я как раз работаю над этим.
5. «Все могло бы получиться – сам Господь хранил страну…»
Все могло бы получиться – сам Господь хранил страну:
Заставлял одеться чисто, усадил к веретену,
И тянулось всяко-разно от соблазна до соблазна,
Но страна была волчица и влюбилась в сатану.
Все могло бы состояться, ибо чем не шутит черт —
Видишь, правила троятся, все боятся, кнут сечет…
Путь мощей-клещей-иголок эффективен, но недолог:
От палаццо до паяца меньше века протечет.
И земля все это схавала за два десятка лет,
Ибо свой завет у Савла, и у Павла свой завет:
Есть обратная дорога отступившимся от Бога,
Но предавшим даже дьявола – назад дороги нет.
«Весь год мы бессмысленно пашем…»
Весь год мы бессмысленно пашем,
и я не свозил тебя в Крым.
Пока он останется нашим – он больше не будет моим.
Какой еще отдых семейный? Гурзуф обойдется без нас.
Чужие отнять не сумели – свои отобрали на раз.
По слухам, к исходу сезона (дождался Кортеса ацтек!)
Там будет игорная зона, вполне селигерский Артек,
А также военная база, вернувшая славу сполна,
Добыча природного газа и все, чем Россия славна.
Для нас это было границей
меж двух нераздельных стихий —
Для них это стало бойницей, откуда уставился Вий.
Для нас это Черное море – для них это выход туда,
Где топчутся в тесном Босфоре набитые смертью суда.
Из тысячи щелок и скважин ударила адская смесь,
И рай безнадежно загажен, и делать нам нечего здесь.
Мы столько по этому раю бродили поврозь и вдвоем —
Но вот я его забываю в аду ежедневном моем.
Олив, кипарисов не надо, и плеска, и склизких камней.
Мы знаем: изгнанье из ада описано нами верней.
Они не от Божьего гнева бежали, а просто в раю
Остаться побрезгует Ева, стопою нащупав змею.
Прощайте, зеленые брызги,
и галечный скрежет, и грот,
И запахи перца и брынзы, и море, что нежит и врет,
И запахи выжженной пампы,
и катер, и шаткий настил —
Ты видишь: всё штампы, всё штампы.
Смотри, я уже заместил.
А в общем, ужасная пошлость —
винить времена и режим.
Моя или Божья оплошность —
все сделалось слишком чужим,
Ряды победительных пугал со всех наступают сторон,
Уже не отыщется угол, который бы не осквернен.
И два полушария мозга, как два полушарья Земли,
Стирают угрюмо и грозно заветные бухты свои,
Заветные улицы, страны, оазисы, мысы, жилье…
Мои здесь – меридианы, а больше ничто не мое.
И знаешь: прости святотатство,
но в этом и есть торжество.
Нам хватит уже отвлекаться на фотообои Его.
И вместо блаженного юга мы носимся в бездне рябой,
Где нас уже, кроме друг друга,
ничто не волнует с тобой.
«В первый раз я проснусь еще затемно…»
В первый раз я проснусь еще затемно, в полутьме, как в утробе родной, понимая, что необязательно подниматься – у нас выходной, и наполнюсь такою истомою, что вернусь к легкокрылому сну и досматривать стану историю, что и выспавшись не объясню. И сквозь ткань его легкую, зыбкую, как ребенок, что долго хворал, буду слышать с бессильной улыбкою нарастающий птичий хорал, и «Маяк», и блаженную всякую ерунду сквозь туман полусна, и что надо бы выйти с собакою, но пока еще спит и она.
А потом я проснусь ближе к полудню – воскресение, как запретишь? – и услышу блаженную, полную, совершенную летнюю тишь, только шелест и плеск, а не речь еще, день в расцвете, но час не пришел; колыхание липы лепечущей да на клумбе жужжание пчел, и под музыку эту знакомую в дивном мире, что лишь начался, я наполнюсь такою плеромою, что засну на четыре часа.
И проснусь я, когда уже медленный, как письмо полудетской рукой, звонко-медный, медвяный и мертвенный по траве расползется покой, – посмотрю в освеженные стекла я, приподнявшись с подушки едва, и увижу, как мягкая, блеклая утекает по ним синева: все я слышал уступки и спотыки – кто топтался за окнами днем? – дождь прошел и забылся, и все-таки в нем таился проступок, надлом; он сменяется паузой серою, и печаль, как тоска по родству, мне такою отмерится мерою, что заплá чу и снова засну.
И просплю я до позднего вечера, будто день мой еще непочат, и пойму, что вставать уже нечего: пахнет горечью, птицы молчат, ночь безлунная, ночь безголовая приближается к дому ползком, лишь на западе гаснет лиловая полоса над коротким леском. Вон и дети домой собираются, и соседка свернула гамак, и что окна уже загораются в почерневших окрестных домах, вон семья на веранде отужинала, вон подростки сидят у костра – день погас, и провел я не хуже его, чем любой, кто поднялся с утра. Вот он гаснет, мерцая встревоженно, замирая в слезах, в шепотках: все вместилось в него, что положено, хоть во сне – но и лучше, что так. И трава отблистала и выгорела, и живительный дождь прошумел, и собака сама себя выгуляла, и не хуже, чем я бы сумел.
И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.
Георгий Иванов
Бранко Дранич обнял брата,
к сердцу братскому прижал,
Улыбнулся виновато и воткнул в него кинжал.
Янко Вуйчич пил когда-то с этим братом братский рог
И отмстил ему за брата на распутье трех дорог.
Старый Дранич был мужчина
и в деревне Прыть-да-Круть
Отомстил ему за сына, прострелив седую грудь.
Эпос длинный, бестолковый, что ни рыцарь, то валет:
Скорбный рот, усы подковой, пика сбоку, ваших нет.
Нижне-южная Европа, полусредние века,
Кожей беглого холопа кроют конские бока.
Горы в трещинах и складках, чтобы было где залечь.
Камнеломная, без гласных,
вся из твердых знаков речь.
Мир ночной, анизотропный – там чернее, там серей.
Конь бредет четырехстопный, героический хорей.
Куст черновника чернеет на ощеренной земле,
Мертвый всадник коченеет над расщелиной в седле.
Милосердья кот наплакал:
снисхожденье – тот же страх.
Лживых жен сажают на кол, верных жарят на кострах.
В корке карста черно-красный полуостров-удалец —
То Вулканский, то Полканский,
то Бакланский наконец.
Крут Данила был Великий, удавивший десять жен:
Сброшен с крыши был на пики, а потом еще сожжен.
Крут и Горан, сын Данилы, но загнал страну в тупик,
Так что выброшен на вилы – пожалели даже пик.
Князь Всевлад увековечен – был разрублен на куски:
Прежде выбросили печень, следом яйца и кишки.
Как пройдешься ненароком мимо княжьего дворца —
Вечно гадости из окон там вышвыривают-ца.
Как тут бились, как рубились, как зубились, как дрались!
До песчинок додробились, до лоскутьев дорвались,
Прыть-да-Круть – и тот распался
на анклавы Круть да Прыть,
Чье зернистое пространство только флагом и покрыть.
Мусульмане, христиане, добровольцы и вожди
Всё сломали, расстреляли, надкусили и пожгли.
Местность, проклятая чертом (Бог забыл ее давно),
Нынче сделалась курортом: пьет десертное вино,
Завлекает водным спортом, обладает мелким портом,
Населением потертым и десятком казино.
Для того ли пыл азартный чужеземцев потрясал,
Для того ли партизаны истребляли партизан,
Для того ли надо вытечь рекам крови в эту соль,
Стойко Бранич, Гойко Митич, Яйко Чосич, для того ль?
Каково теперь смотреть им на простор родных морей,
Слушать, как пеоном третьим спотыкается хорей?
Вот и спросишь – для того ли умирало большинство,
Чтоб кружилось столько моли? И ответишь: для того.
А чего бы вы хотели? Я б за это умирал,
Если б кто-то эти цели самолично выбирал.
Безвоздушью, безобразью, вере в вотчину и честь
Лучше стать лечебной грязью, какова она и есть —
Черной сущностью звериной, не делящейся на две
Что в резне своей старинной,
что в теперешней жратве.
Ты же, вскормленный равниной, клейковиной, скукотой,
И по пьянке не звериный, и с похмелья не святой,
Так и сгинешь на дороге из элиты в мегалит,
Да и грязь твоя в итоге никого не исцелит.
«Августа вторая половина, вторая половина дня…»