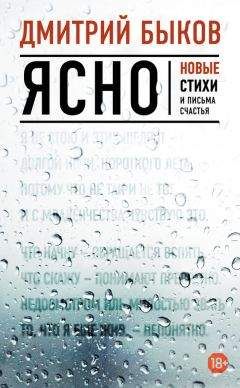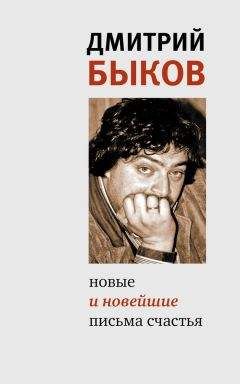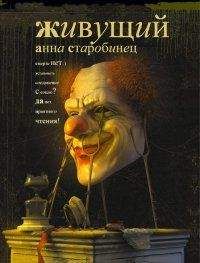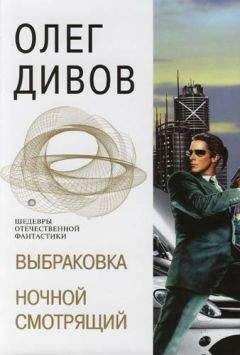«Августа вторая половина, вторая половина дня…»
Августа вторая половина, вторая половина дня,
Залитая солнцем луговина,
комарино-стрекозья толкотня.
Медленно скользящая лодка, мелкая теплая вода.
Если что-то значит слово «кротко», то это да, ему сюда.
Будто все затем и рождалось,
чтоб долго и тихо увядать,
А я, смешавши зависть и жалость,
явился все это увидать.
Жизнь моя, позднее лето, тающий запас, тихий час!
И если я так люблю все это,
чувствуя ваш прицельный глаз,
Чуя вонь вашего расцвета
и видя весь ваш иконостас, —
То как бы я любил все это, если бы не было бы вас!
И я бы умолк на этом месте, будь мне, к примеру,
двадцать шесть, —
Вокруг и тогда хватало жести, но это была
другая жесть.
А если б вошел я, против правил, в ту же реку
десять лет спустя —
Тогда бы, наверное, прибавил,
слезою невольною блестя,
Что этот миг теплого покоя —
всего запятая перед «но»,
А дальше начинается такое, которое любить мудрено:
Дробный бег поезда за лесом,
осеннее «налетай, братва»,
Идиллия сперва сдана бесам,
потом укрыта снегом и мертва.
Ветер по пустому перрону
свищет все громче, все лютей.
Поистине, как любить природу, если бы не было людей?
Я всю эту книжку-раскраску из охры, свинца и синевы
Нахваливал только по контрасту:
угрюмо, но все-таки не вы.
Я вряд ли бы так любил все это,
не помни я, какие вы есть.
И это реверанс от поэта,
которому стало тридцать шесть.
А нынче, когда вы так горазды везде распространяться,
как газ, —
Я думаю: все-таки без вас бы.
Лучше бы все-таки без вас.
А то, вспоминая вашу лажу, я даже на этом берегу,
Даже и дачному пейзажу по-прежнему верить не могу.
Идиллию видишь? Разуверься.
Все маска, искусное вранье.
Мне видится теперь изуверство в юродивой кротости ее.
Все маска, цветущая ловушка, и даже серебряная нить
Летит над кустами, потому что иначе тебя не приманить.
И все эти отмели и плесы на сонной августовской реке
Похожи на пьяные слезы убийцы в ночном кабаке.
Не жалко никого. Потому что, где раньше была
благая весть —
Мне видится ловушка, ловушка. Так я говорю
в сорок шесть.
Через десять лет, вероятно, —
граница не так уж далека —
Все уже мне будет понятно! Подумаешь, река – и река.
Я в ней постепенно растаю. В эту рыжину и свинец
Я уже полвека врастаю – должен же врасти наконец.
С годами, к несчастью или к счастью,
смирение, охра, рыжина —
Я стану, как и все, твоей частью.
А часть дара речи лишена.
«Хорошо бродить по дворам Москвы, где тебя не ждут…»
Хорошо бродить по дворам Москвы, где тебя не ждут,
Где сгребают кучи сухой листвы, но еще не жгут.
Не держа обид, не прося тепла – обожди, отсрочь…
Золотая осень уже прошла, холодает в ночь.
Миновать задумчиво пару школ или хоть одну.
Хорошо бы кто-то играл в футбол или хоть в войну.
Золотистый день, золотистый свет,
пополудни шесть —
Ничего бы, кажется, лучше нет. А впрочем, есть.
Хорошо в такой золотой Москве, в золотой листве,
Потерять работу, а лучше две или сразу все.
Это грустно в дождь, это страшно в снег,
а в такой-то час
Хорошо уйти и оставить всех выживать без вас.
И пускай галдят, набирая прыть, обсуждая месть…
Ничего свободней не может быть. А впрочем, есть.
Уж чего бы лучше в такой Москве, после стольких нег,
Потерять тебя, потерять совсем, потерять навек,
Чтобы общий рай не тащить с собой, не вести хотя б
На раздрай, на панику, на убой, вообще в октябрь.
Растерять тебя, как листву и цвет, отрясти, отцвесть —
Ничего честнее и слаще нет. А впрочем, есть.
До чего бы сладко пройти маршрут —
без слез, без фраз, —
Никому не сказав, что проходишь тут в последний раз,
Что назавтра вылет, прости-прощай, чемодан-вокзал,
Доживай как хочешь, родимый край, я все сказал.
Упивайся гнилью, тони в снегу. Отдам врагу.
Большей радости выдумать не могу. А, нет, могу.
Хорошо б, раздав и любовь, и город, и стыд, и труд,
Умереть за час до того, как холод сползет на пруд,
До того, как в страхе затмится разум, утрется честь,
Чтоб на пике счастья лишиться разом всего, что есть,
И оставить прочим дожди и гнилость, распад и гнусь…
Но боюсь представить такую милость.
Просить боюсь.
1. Сербская пляска, или Баллада о большой рвоте
Сербская пляска,
или Баллада о большой рвоте
Отважной Сербии сыны
Планируют теракт.
Они бедны, они больны,
Им нечего терять.
Сегодня будет главный шанс
Для их рисковых банд:
Приедет Франц, приедет Франц,
Приедет Фердинанд!
Сегодня пулею одной
Иль парою гранат
Свободу Сербии родной
Купить они хотят!
Наганы есть, и роздан яд,
И двадцать пять гранат.
Был чудный день. Стоял июнь.
Жара, покой и лень.
Символика куда ни плюнь —
Святого Витта день.
Со дня того, с минуты той —
Наяривай, тапер! —
Весь мир плясал, как Витт святой,
И пляшет до сих пор.
С морганатической женой
На маленький перрон
Выходит Франц – еще живой,
Уже приговорен.
По узким улицам кортеж
Плетется прямо в рай.
Семь раз отмерь, один отрежь,
Прицелься и швыряй!
Вот он направо повернул,
Заканчивая путь…
Один гранату не швырнул,
Другой не смог швырнуть!
Студент орет на кутеже,
Но в битве – дилетант!
Еще минута – и уже
Спасется Фердинанд!
Но Чабринович удалой —
Пенсне и борода! —
Воскликнул грозное «Долой»
И кинул. Не туда.
(Общий танец, ликование, повторение куплета.)
Он в Фердинанда не попал,
Попал совсем не в то,
И взрыв буквально разметал
Соседнее авто.
Тогда он храбро принял яд,
Пилюлю проглотив,
Как сговорился час назад
Отважный коллектив.
А рядом там текла река,
Холодная вода,
И чтоб уже наверняка —
Он бросился туда.
Меж тем река была мелка —
Никак не умереть! —
И поглотила смельчака
Едва-едва на треть.
И яд был тоже так себе
И действовал едва —
Как все в студенческой борьбе
За сербские права.
Он был припрятан под полой,
Но бил не наповал,
И Чабринович удалой
Отчаянно блевал.
Его рвало тупой борьбой,
Напрасною божбой,
Европой, шедшей на убой,
Кончающей с собой,
Он извергал напрасный пыл,
Подпольный комитет
И все, чем он напичкан был
За двадцать юных лет.
Потом он загнан был, как зверь,
И помещен в тюрьму,
И возвращаться мы теперь
Не думаем к нему.
Несостоявшихся убийц
Опять собрал кабак,
И все гадали, как тут быть,
И все не знали, как.
Один заметил: «Примем яд,
Иначе нас возьмут —
Ведь мы буквально час назад
Решили это тут!»
Другой заметил: «Ерунда!
Я знаю вариант —
Мы все пойдем туда, куда
Поехал Фердинанд».
Не набиралось большинство,
Скандаля и грубя.
Один кричал: добьем его!
Другой: убьем себя!
И самый маленький из всех,
Упорный либерал,
Гаврило Принцип, как на грех,
Там больше всех орал.
Герой, с отвагою в груди,
Хотел на пьедестал…
Ему сказали:
– Уходи.
Гаврило, ты достал.
Вот кофе, парень, вот еда —
Попей давай, поешь…
И он пошел туда, куда
Отправился кортеж.
Он там в отчаянье бродил,
Пугал собой народ
И жадно, словно крокодил,
Впивался в бутерброд.
Меж тем эрцгерцог и жена,
Супруги без колец,
Решили, что отражена
Опасность наконец.
– Поедем в госпиталь, ма шер! —
Воскликнул Фердинанд,
И с ними сел в машину мэр,
Спокойствия гарант.
На Аппель двинулся кортеж,
А надо бы домой:
Ведь через миг пробьется брешь
В истории самой!
Гаврила Принцип их узрел,
Свершился приговор —
И он прозрел, и он дозрел
И выстрелил в упор.
Эпоху тряски на сто лет
И больше, как ни жаль,
Открыл бельгийский пистолет
«Фабрик националь».
Кабак отчаянно гулял,
Но кончился запал:
Пронесся слух, что он стрелял
И, кажется, попал!
Теперь бежать – напрасный труд.
Решился весь отряд:
Поскольку всех сейчас возьмут,
Давайте выпьем яд!
Но яд, история гласит,
Какой-то был не тот,
Не получился цианид,
И вот их дружно рвет.
Когда с оружьем наголо
Вбежал отряд рубак,
О Боже, как их всех рвало!
Смутился весь кабак.
Лицо у кельнера бело
И дыбом волоса.
Двадцатым веком их рвало,
Он так и начался!
Двадцатый век, удар под дых
Железным кулаком, —
С кровавой рвоты пятерых
В Сараеве глухом!
Зловонный век концлагерей,
Тщеты и нищеты,
Краснознаменных блатарей,
Дошедших до черты,
Век палачей, и стукачей,
И газовых атак,
Бесплодных пафосных речей,
Сторожевых собак,
Террора, паек, вшей, и гнид,
И озверевших масс —
Всем этим их еще тошнит,
А рвет сегодня нас!
Довольно! Музыка гремит!
Пора пуститься в пляс!