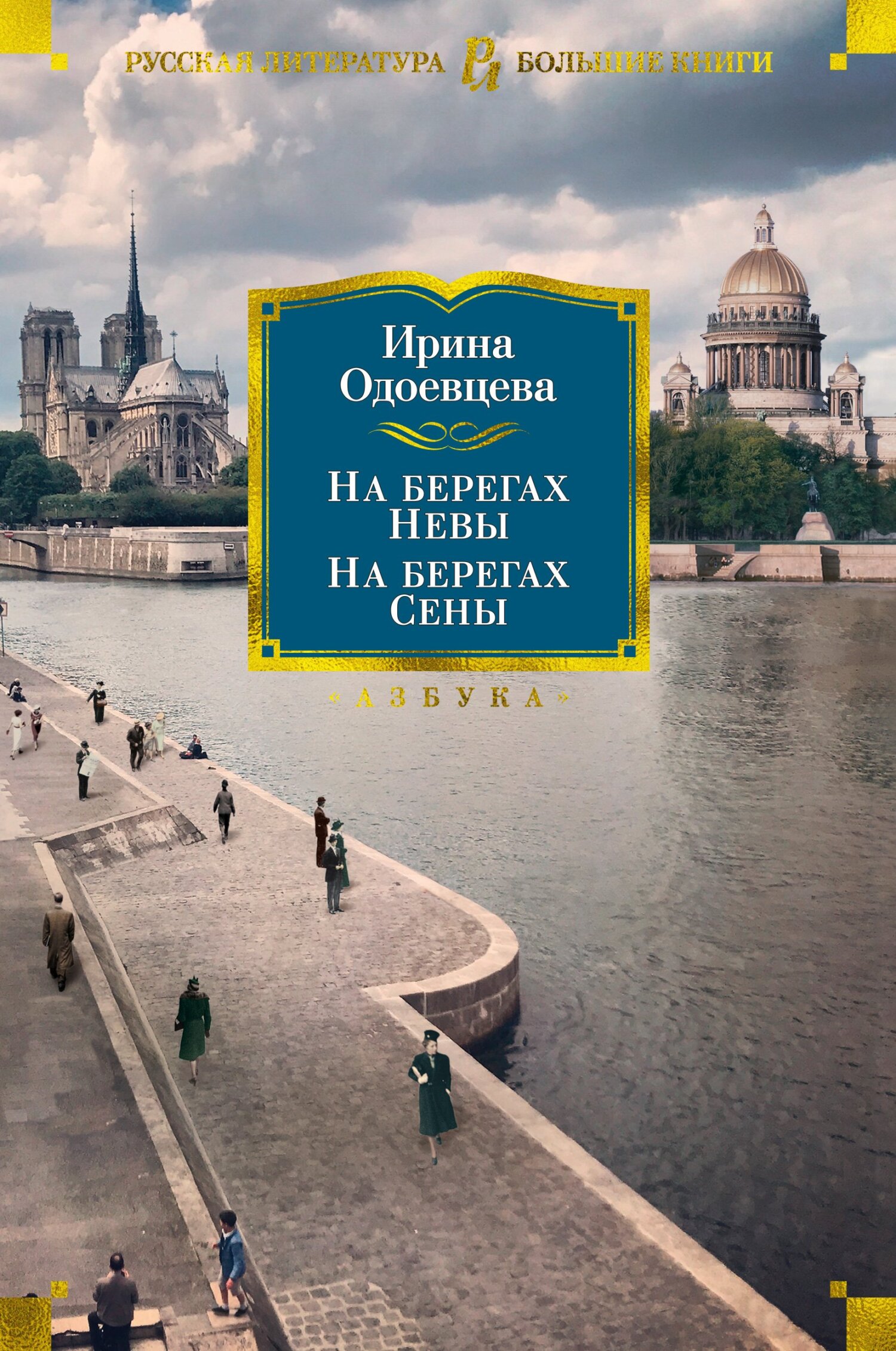На литературной карте Серебряного века Ирина Одоевцева, «маленькая поэтесса с большим бантом», как она себя называла, и любимая ученица Николая Гумилева, занимает особое место. Ее первый сборник «Двор чудес» (1922) стал заметным событием в литературной жизни и был дружно одобрен критикой. «…Чутье стиля в такой мере, как у Одоевцевой, – признак дарования очень крупного», – писал Владимир Пяст. И даже язвительный Лев Троцкий удостоил Одоевцеву своей похвалы, выделив «Двор чудес» среди «книжечек и книжонок»: «Очень, очень милые стихи». Однако известность пришла к ней еще раньше. На поэтических вечерах юная Одоевцева пользовалась большой популярностью и с блеском читала свои стихи, включая знаменитую «Балладу о толченом стекле». Ее сразу отметил Александр Блок, ею восхищались Корней Чуковский, Михаил Лозинский и Георгий Иванов. В 1922 году Ирина Одоевцева уехала из России и большую часть жизни провела во Франции, но в 1987 году вернулась на родину, где ей довелось увидеть свои книги изданными в СССР огромными тиражами. Помимо мемуарной прозы, творчество Одоевцевой включает несколько романов, переведенных на многие языки, а также семь поэтических сборников, ставших неотъемлемой частью русской поэзии ХХ века.
Облокотясь на бархат ложи,
Закутанная в шелк и газ,
Она, в изнеможеньи дрожи,
Со сцены не сводила глаз.
На сцене пели, танцевали
Ее любовь, ее судьбу,
Мечты и свечи оплывали,
Бесцельно жизнь неслась в трубу,
Пока блаженный сумрак сцены
Не озарил пожар сердец
И призрак счастья… Но измены
Простить нельзя. Всему конец.
Нравоучительно, как в басне,
Любовь кончается бедой…
– Гори, гори, звезда, и гасни
Над театральной ерундой!
«В руках жасминовый букет…»
В руках жасминовый букет,
И взгляд невинно-удивленный,
И волосы, как лунный свет,
Косым пробором разделенный.
Сквозь тюлевый туман фаты
Девическое восхищенье…
Но неужели это ты,
А не твое изображенье
На полотне за гранью лет,
В поблекшем золоте багета,
Воображаемый портрет,
«Банальная мечта поэта»?
Летала, летала ворона.
Долетела до широкого Дона,
А в Дону кровавая вода —
Не идут на водопой стада,
И в лесу кукует не кукушка,
А грохочет зенитная пушка.
Через Дон наводят мосты,
И звенят топоры и пилы,
Зеленеют братские могилы,
На могилах – безымянные кресты…
А вороне какое дело —
Вильнула хвостом и домой улетела.
«Угли краснели в камине…»
Угли краснели в камине,
В комнате стало темно…
Все это было в Берлине,
Все это было давно.
И никогда я не знала,
Что у него за дела,
Сам он рассказывал мало,
Спрашивать я не могла.
Вечно любовь и тревога…
Страшно мне? Нет, ничего.
Ночью просила я Бога,
Чтоб не убили его.
И, уезжая кататься
В автомобиле одна,
Я не могла улыбаться
Встречным друзьям из окна.
«Серебряной ночью средь шумного бала…»
Серебряной ночью средь шумного бала,
Серебряной ночью на шумном балу,
Ты веер в волненьи к груди прижимала,
Предчувствуя встречу к добру или злу.
Средь шумного бала серебряной ночью
Из музыки, роз и бокалов до дна,
Как там на Кавказе когда-то, как в Сочи,
Волшебно и нежно возникла весна.
Серебряной ночью средь шумного бала
Кружилась весна на зеркальном полу,
И вот эмигрантской печали не стало,
И вот полудетское счастье сначала,
Как в громе мазурки на первом балу,
Как там на Кавказе когда-то, как в Сочи,
Средь шумного бала серебряной ночью…
«Далеко за арктическим кругом…»
Далеко за арктическим кругом,
Распластав поудобней хвосты,
Рассуждали тюлени друг с другом,
Называя друг друга на «ты».
Согласились разумно тюлени:
Жизнь спокойна, сытна, весела
И полна восхитительной лени,
Много холода, мало тепла,
Ни надежд, ни пустых сожалений.
Жизнь от века такою была…
А про ландыши, вешнее таянье,
Исступленное счастье, отчаянье
Сумасшедшая чайка врала,
Перед тем как на льду умерла.
1950
За окном сухие ветки,
Ощущенье белки в клетке.
Может быть, я, как и все,
Просто белка в колесе?
И тогда мечтать не вправе
Я о баснословной славе?
Слава все равно придет,
Не сейчас, так через год.
1950
«Клочья света, обрывки тепла…»
Клочья света, обрывки тепла,
Золоченой листвы фалбала,
Сад в муаровой шумной одежде
Легкомысленно верит надежде,
Что не будет от осени зла,
Что она, как весна, весела.
Вспоминаю, насколько я прежде
Рассудительней, старше была
И насколько печальней жила.
1950
Банальнее банального,
Печальнее печального,
Умильнее умильного
Под гром оркестра бального,
А дальше – право сильного,
Без разговора дальнего.
А там – совсем банальщина,
Шампанское, цыганщина.
Банальнее банального
«Прости» свистка вокзального,
Печальнее печального
В купе вагона спального,
В ночи с огнями встречными,
С цветами подвенечными,
Железа бормотание:
«В Ис-панию, в Ис-панию»…
В белом дыму паровоза,
Возле вагонных колес,
Были улыбки и розы,
Не было правды и слез.
Так в этот час расставанья,
В час умиранья души
Он говорил: «До свиданья,
Ведь ненадолго. Пиши…»
Сердце царапают кошки.
Все утешенья – вранье.
…Белый платочек в окошке
Делает дело свое.
Прощанье на вокзале,
Прощальные цветы.
– Зачем вы не сказали?
Ведь я простить могла,
Ведь я не помню зла…
– Не надо расставаться,
Двенадцать, нет – тринадцать
Минут еще осталось,
И можно все решить…
– Мне больно. Я устала,
И времени так мало,
Так трудно говорить…
Широкая перчатка,
Дорожное пальто.
…В Берлине пересадка…
Ах, это всё не то!
Осталось восемь, семь…
И нет минут совсем,
И