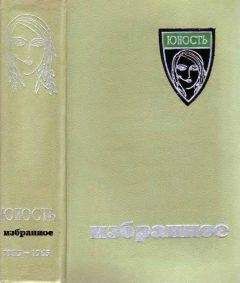Борис Дубровин
Из цикла «Океанская земля».
Дневальный усталый
По воду к речке не ходит:
Стенами скрыт.
За занавеской льняной
Под крышей заставы
Вырыт в столовой колодец —
Тело бодрит
Свежестью ледяной.
Даже неловкий
С этой премудростью ладит:
Ворот вращается,
Поскрипывает с утра,
Два метра веревки —
И бледно мерцающей глади
Донце касается
Побрякивающего ведра.
Наш друг терпеливый —
Колодец в темном закутке.
Как он сквозь тьму
Чувствует близость росы!..
В нем дважды отливы,
Дважды приливы за сутки,
Мы по нему
Даже сверяли часы.
Надежные стены
От мира его откололи,
Звезды и зори
Ему никогда не видны.
Но, странное дело.
Скрытый от взглядов колодец —
Малое море
Отдано власти луны.
Ждите мужчин пропавших.
Всеми морями пропахших.
Наши мужчины придут!
С мужчинами так бывает:
Вдруг пропадут.
Нескончаема наша вера,
И любая из нас постигала:
Беспокойны мужчины, как ветры.
Высоки, будто белые скалы.
Мы вас ждали три дня и три года.
Мы ботинки отдали в починку,
Мы поставили в свежую воду
Пестики и тычинки.
Как без вас день и ночь моросило!
Как тоске нашей ветер вторил!
Уши — раковины морские:
В них все время гремело море!
Не бывали мы в той передряге.
Ни на краешек, ни в середку
Не садились к лихому гуляке
В егозливую хлипкую лодку.
Ждите мужчин пропавших.
Всеми морями пропахших.
Наши мужчины придут!
С мужчинами так бывает:
Вдруг пропадут.
В нашем домике допотопном
Помню женщин одних в семье.
Помню: туфли твои дотоптаны,
Платье выцвело на спине.
Я мечтала тогда девчонкой,
Как бы мне суметь накопить,
Снять самой с тебя мерку бечевкой,
Платья в городе накупить.
Называли тебя вдовою.
Помню все я твои труды.
Как верблюдицею худою
С огорода влекла пуды.
Постоишь у ворот молчаливо.
Не откроет хозяин ворот.
Я не помню в семье мужчины
Посреди бытовых забот.
До сих пор ты не так одета.
Руки маленькие черны.
Нет, никто не виновен в атом.
Кроме той мировой войны!
Дрова несет уборщица.
В пальто и шубах вешалка.
Весна. На голой рощице
Качается скворешенка.
Когда весна упрочится
Для гнезд, для певчих горлышек!
Весна. На голой рощице
Качается воробышек.
Дух мой проник
В материю простую.
Ношу я белый воротник
Да юбочку вплотную.
Не наглухо, не целиком
Такой загар здесь спрятан.
Что кажется: я шла пешком
В Москву из древней Спарты.
Июль в сандалики обут
В цветах, резных, плетеных.
Асфальт попеременно мнут
Два пальца обнаженных.
Я уличная толчея,
Цирк, «Форум», «Панорама»!
В метро мне кажется, что я
Привыкший к свету мрамор.
В метро мой образ многолик:
Снопы. Венки. Пирую!
Ношу я белый воротник
Да юбочку вплотную!
Я доила коров. Выгребала навоз.
И на рынке, где грубые вкусы.
Гребешки покупала для жирных волос
И стеклянные красные бусы.
Еду в новую область. Трясусь на возу.
Кость широкая в ситце лаптастом.
Заскорузлой рукою хватаю вожжу:
Я Орина, смугла и скуласта.
Я былины слыхала на печке зимой,
Я дождей ожидала на пашне.
Есть такие глаза для меня, простой,
Как замочные скважины в башню.
В них заглянешь, и песенный лад на устах.
Имя милого — песня пастушья.
Я держу это имя в обеих руках,
Нараспев повторяю: Илюша!
Все отдам я: пшеницу, свинину, творог, —
Ничего не оставлю в запасе!
Дайте пару мне нежно дрожащих серег.
Для лица — самой ласковой мази!
Научите писать, выводить письмена,
Красить красками голубя, змея.
Как была, как слала от темна до темна,
Ничего, ничего не умея?!
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы, как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее,
А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самою незаметностью своей.
У каждого есть тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.
Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты.
Да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно.
Таков закон безжалостной игры:
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них!
Что знаем мы про братьев, про друзей!
Что знаем о единственной своей!
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.
Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.
Хотят ли русские войны?
Песня
Хотят ли русские войны!
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей,
и у берез, и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну, —
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж…
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны!
Смеялись люди за стеной,
а я глядел на эту стену
с душой, как с девочкой больной
в руках, пустевших постепенно.
Смеялись люди за стеной.
Они как будто измывались.
Они смеялись надо мной
и как бессовестно смеялись!
На самом деле там, в гостях,
устав кружиться по паркету,
они смеялись просто так,
не надо мной и не над кем-то.
Смеялись люди за стеной,
себя вином подогревали
и обо мне с моей больной,
смеясь, и не подозревали.
Смеялись люди… Сколько раз
я тоже, тоже так смеялся,
а за стеною кто-то гас
и с этим горестно смирялся.
И думал он, бедой гоним
и ей почти уже сдаваясь,
что это я смеюсь над ним
и, может, даже издеваюсь.
Да, так устроен шар земной
и так устроен будет вечно:
рыдает кто-то за стеной,
когда смеемся мы беспечно.
Но так устроен шар земной
и тем вовек неувядаем:
смеется кто-то за стеной,
когда мы чуть ли не рыдаем.
Двойной исполнись доброты.
И, чтоб кого-то не обидеть,
когда смеешься громко ты,
умей сквозь стену сердцем видеть.
Но не прими на душу грех,
когда ты мрачный и разбитый,
там, за стеною, чей-то смех
сочесть завистливо обидой.
Как равновесье — бытие.
В нем зависть — самооскорбленье.
Ведь за несчастие твое
чужое счастье — искупленье.
Желай, чтоб в час последний твой,
когда замрут глаза, смыкаясь,
смеялись люди за стеной,
смеялись, все-таки смеялись!
«Очарованья ранние прекрасны…»