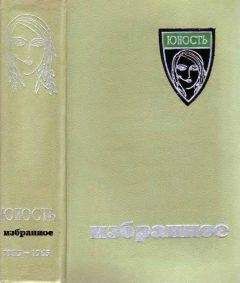Черная икра
Канул сейнер в море, как иголка.
Так похожи волны на стога…
Водится на Каспии икорка,
Королева всякого стола.
Ах, обед на баке! То и дело
Мой сосед подшучивал баском:
«Налетай, москвич, подешевело.
Веселей работай черпаком!»
Подходил к бачку я раз по сорок,
А теперь, ей-ей, невмоготу.
И не от каспийских разносолов —
От работы солоно во рту.
Вот она, икорка, — будто пули.
Свищут брызги, падает гроза.
И ступают ноги, как ходули,
Плавают белесые глаза.
Вот она, икорка, — смотришь в оба.
От снастей ладони как в огне.
Каспий наизнанку, точно робу,
Душу выворачивает мне.
Вот ползем, на равных с морем споря,
Вот закончен путь, сдаем улов,
Для столов, ну, скажем, «Метрополя»,
Для других обеденных столов.
А потом отчаливает лето,
Я по сходням на берег схожу.
Черной, антрацитового цвета
Вот такую банку увожу.
Еду, на вопросы отвечаю,
Табачки рыбацкие курю,
Вновь икрой соседей угощаю.
— Налетайте, братцы, — говорю.
Сумел я запросто ужиться,
Сдружиться не за рюмкою вина,
А после долгой вахты За ушицей,
Когда всплывет над морем тишина.
Как в центре мирозданья,
Ходит барка
По медленной полуночной воде.
Рыбацкая огромная цигарка
Подмигивает крохотной звезде.
Вот так сидим и курим до рассвета.
Как в воду, окунаемся в зарю.
И все законы жизни,
Все приметы
Читает сердце,
Как по букварю.
Понятны и близки созвездья, зори,
И рыбаки у медного бачка,
И на руках забывшихся мозоли,
И путь, еще не пройденный пока.
Как бы сошлись разъятые на части
И мысли,
И поступки,
И года.
Зовущие и ждущие участья
Все дни мои ясны, как никогда.
Как выносишь ты жару! —
Морж спросил у Кенгуру.
— Я от холода дрожу! —
Кенгуру сказал Моржу.
— Что ж ты, Еж, такой
колючий!
— Это я на всякий случай!
Знаешь, кто мои соседи!
Лисы, Волки да Медведи!
И петь не поет
И летать не летает…
За что же тогда
Его птицей считают!
Жили-были два соседа,
Два соседа-людоеда.
Людоеда людоед
Приглашает на обед.
Людоед ответил: — Нет!
Не пойду к тебе, сосед:
На обед попасть не худо,
Но отнюдь не в виде
блюда…
Овечке
Волк
Сказал: — Овца!
У вас прекрасный цвет лица!
Ах, если хвалит Волк
Овечку,
Не стоит верить ни словечку!
Равно
На честных и бесчестных
льется
Господень дождь с небесной
высоты…
Но честным все же
больше достается!
Бесчестные
Крадут у них зонты!
Памяти Николая Островского.
Говорили ему враги:
Не работай, глаза береги.
Он работал врагам назло —
Он любил свое ремесло.
Говорили ему врачи:
Если будет больно, кричи.
Только он у врачей молчал.
Но цвета уже не различал.
Говорило чутье ему:
Очень скоро сорвешься во тьму.
И решил он: раз выхода нет
Пусть останется в памяти свет.
Прежде чем глазам умирать.
Надо солнце в них все вобрать.
И не слепнет он с этих пор:
Он на солнце смотрит в упор.
Картины детства, строгие, как время.
Да не забудется их простота и ясность,
Когда по всей земле моей оркестры
Дождями долгожданными пройдут.
В квадратной раме школьного двора
Был пункт призыва. Там прощались люди.
Там женщины над пропастью утраты
Несли
слезами полные глаза.
Там под хмельной тальяночный разлив
Призывники «цыганочку» плясали.
И старики, стоящие по кругу,
Глотали молча едкий дым махры.
А в самом центре школьного двора,
А в самом центре горести и боли
Плыл
над косынками и вещмешками
Веселым громом духовой оркестр.
Играл он марши, звонкие, как медь.
А мы держали оркестрантам ноты.
Выстраивались не спеша колонны.
И уходили прямо на вокзал.
Но с каждым днем все меньше было труб.
Мы узнавали лица музыкантов
Среди людей, идущих на вокзал.
Кончался август. Часто шли дожди.
И в этот день грустил над миром дождь.
Мы сделали из пиджаков навесы,
Привычно развернули наши ноты.
А музыкантов было только три.
Пришел ударник, бас и корнетист.
И мы стояли на обычном месте.
Построилась последняя колонна
И двинулась неслышно со двора.
А наш оркестр над нею поднял марш.
Так в небо поднимают только знамя.
И марш звенел не посреди двора,
А где-то очень, очень впереди.
И мы смотрели и смотрели вдаль.
Нас мучила мальчишеская зависть.
Высокая, как чистый звук корнета,
К мужчинам, уходящим на войну.
В давильне давят виноград.
Вот что важнее всех событий:
В дубовом дедовском корыте
Справляют осени обряд.
Крестьяне, закатав штаны.
Ведут языческие игры.
Измазанные соком икры
Работают, как шатуны.
Работают крестьяне в лад,
Гудит дубовая колода,
Летят на гроздья капли пота,
Но пот не портит виноград.
Жуют ногами виноград!
И нету ног святей и чище.
По травам летним, по грязище
Ступавших тыщи лет подряд.
Жизнь — это что такое, брат!
Давильня, а не живодерня!
Но дьявол путает упорно,
И кости юные трещат.
Люблю давильни вязкий чад,
Шипенье, чмоканье и стоны,
Спиртовый воздух напряженный,
В давильне давят виноград!
Топырится над гроздью гроздь,
Как груди смуглые южанок…
Дождемся свадебных гулянок,
Тогда, тогда, как повелось,
Хозяин распахнет подвал.
Друзьям собраться за столом бы!
Взорвутся солнечные бомбы!
Под стол слабейших, наповал!
За стойкость мужества, мужчины!
За клин, что вышибает клин!
Неважно, кто открыл кувшин,
А важен вкус вина в кувшине.
Пью, рог тяжелый накреня, —
Да будет рогом изобилья!
А если что сказать забыл я,
Друзья доскажут за меня.
«Мне нужен собрат по перу…»
Мне нужен собрат по перу —
Делиться последней закруткой,
И рядом сидеть на пиру,
И чокаться шуткой о шутку.
Душа устает голосить
По дружбе, как небо, огромной.
Мне некого в дом пригласить,
И сам я хожу, как бездомный.
Тоскуем по дружбе мужской,
Особенно если за тридцать.
С годами тоска обострится,
Но все-таки лучше с тоской.
Надежды единственный свет,
Прекрасное слово: товарищ…
Вдруг теплую руку нашаришь
Во мраке всемирных сует.
Но горько однажды открыть,
Что не во что больше рядиться,
С талантом для дружбы родиться,
Таланта не применить…
Тоскую по дружбе мужской
Тоской азиатской и желтой…
— Да что в этой дружбе нашел ты!
— Не знаю. Тоскую порой.