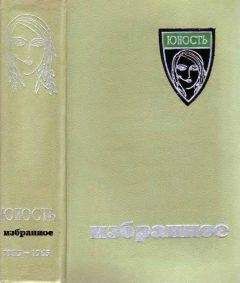На лежбище котиков
Я видел мир в его первичной сути.
Из космоса, из допотопной мути,
Из прорвы вод на командорский мыс
Чудовища, подтягивая туши.
Карабкались, вползали неуклюже,
Отряхивались, фыркали, скреблись.
Под мехом царственным подрагивало сало,
Струилось лежбище, лоснилось и мерцало.
Обрывистое, каменное ложе.
Вожак загадочным (но хрюкающим все же)
Тяжелым сфинксом замер на скале.
Он словно сторожил свое надгробье,
На океан взирая исподлобья
С гримасой самурая на челе.
Под мехом царственным подрагивало сало,
Струилось лежбище, лоснилось и мерцало.
А молодняк в воде резвился рядом.
Тот, кувыркаясь, вылетал снарядом.
Тот, разогнавшись, тормозил ластом
И затихал, блаженно колыхаясь.
Ухмылкой слабоумной ухмыляясь.
Пошлепывая по спине хвостом.
Но обрываются затишье и дремота.
Они, должно быть, вспоминают что-то.
Зевота скуки расправляет пасть.
Как жвачка, пережеванная злоба
Ласты шевелит, разъедает нёбо,
И тварь встает, чтоб обозначить власть.
Соперники! Захлебываясь, воя,
Ластами шлепая, котиху делят двое.
Кричащую по камням волоча.
Один рванул! И черною лавиной
С еще не докричавшей половиной
К воде скатился и затих, урча.
Два секача друг друга пропороли!
Хрипя от похоти, от ярости, от боли,
Воинственным охваченные пылом,
В распоротых желудках рылись рылом.
Заляпав кровью жаркие меха!
Спешили из дымящейся лохани
Ужраться до смерти чужими потрохами.
Теряя собственные потроха…
И хоть бы кто! Подрагивало сало,
Струилось лежбище, лоснилось и мерцало.
Здесь каждый одинок и равнодушен,
Покамест сам внезапно не укушен,
Не сдвинут с места, не поддет клыком.
И каждый замкнут собственной особой.
На мир глядит с какой-то сонной злобой
Недвижным, гипнотическим зрачком.
Здесь запах падали и аммиачно-серный
Извечный дух вселенской свинофермы.
Арктическая злоба и оскал.
Здесь солнце плоское, закатное, рябое.
Фонтаны крови над фонтанами прибоя,
И сумрак, и гряда безлюдных скал.
— Нет! — крикнул я. — Вовеки не приемлю
Гадючьим семенем отравленную землю,
Где мысли нет, там милосердья нет.
Ты видишь сам — нельзя без человека!
Приплюснута, как череп печенега,
Земля мертва, и страшен звездный свет.
А ночь текла. И млечная громада
Спиной млекопитающего гада
Отражена… И океанский вал.
Над гулом лежбища прокатываясь гулом.
Холодной пылью ударял по скулам
И, пламенем белея, умирал.
Орало радио
на площадях,
глашатай двадцатого вена.
Стоял морфинист
у входа в рай
под вывескою «Аптека».
Гипнотизеры средней руки
на государственной службе,
Читали доклады
штурмовики
о христианской дружбе.
И равно летели лотом
под откос,
слушая мерные звуки,
И те, кого усыпил гипноз,
и те,
что спали от скуки.
А скука такая
царила в стране,
такое затменье рассудка.
Что если шутка могла развлечь, —
только кровавая шутка.
Молчали
надгробья усопших домов,
молчали
могилы и морги.
И сын
пошел доносить на отца,
немея в холодном восторге.
Орало радио
на площадях,
глашатай двадцатого века,
Загнав человека
в концлагеря —
во имя сверхчеловека.
А дни проходили
своей чередой,
земля по орбите вращалась,
Но совесть, потерянная страной,
долго не возвращалась.
Веселый флаг на мачте поднят —
как огонек на маяке.
И парус тонет, и парус тонет
за горизонтом вдалеке.
А по воде гуляют краски,
и по-дельфиньи пляшет свет,
Он — как из сказки,
он — как из сказки,
таких на свете больше нет.
А море вдруг приходит в ярость —
такой характер у морей.
Куда ты, парус,
куда ты, парус!
Вернись скорей,
вернись скорей!
Но парус вспыхнул, ускользая,
и не ответил ничего.
И я не знаю, и я не знаю,
он был иль не было его…
«О жажда детская — учиться!..»
О жажда детская — учиться! —
зубрить стихи, решать примеры…
И верить в это, как в приметы
того, что что-то вдруг случится.
Как можно чем-то пробавляться,
пустым, незначащим, невечным,
когда все рвется — прибавляться,
как в половодье влага в речке!
Выходят в люди поколенья.
Выходят в города деревни.
И на ветвях рогов оленьих
побеги, будто на деревьях.
И капля камень точит, точит…
И почка —
каменная точка —
висит на веточке мешком,
как парашют перед прыжком.
А я опять во сне летаю,
смеюсь, котлеты уплетаю,
хватаю факты на лету…
Неужто я еще расту?!
Накапливаю, как улики,
приметы строгости зимы.
Но — на улыбке,
на улыбке
идет вращение Земли!
Ей не трагедии — метели,
не драмы — ветер и мороз.
Все превращения материи
не принимаются всерьез.
Земля с улыбкою несется,
Земля и в стужу — молодцом!
Ведь если нынче в спину солнце,
то завтра вновь к нему лицом…
Когда еще играет в прятки
весна,
когда зима долга.
улыбка вожаком в упряжке
легко летит через снега!
Ах, эта легкость, эта ясность!
Так улыбается дитя.
Так улыбался Белояннис,
шутя,
цветок в руке вертя…
Я знаю, что в тебе, улыбка.
Не зря, улыбка, вижу я:
над всем, что слякотно и хлипко, —
воздушна
юбочка твоя!
Я знаю, что улыбкой скрыто,
когда, верша свои дела.
Земля — конягой — прет без скрипа
воз, закусивши удила.
И, медленная, как улитка, —
так раскрывается бутон —
и на моих губах улыбка
травою майской сквозь бетон.
«Я уезжаю. Мучает, морочит…»
Я уезжаю. Мучает, морочит
дорога. И пророчит и пророчит.
Мороженые яблоки в Мороче —
коричневые, ржавые на вкус…
И ржавый дым. И рыжих сопок ржавость.
И жадность, и восторженность, и жалость —
как одинокий придорожный куст.
Прощай, восток! Все эти гулы, гуды,
и шпалы, и замшелых бревен груды,
и этот ветер — прямо в губы, грубый —
все это юность, родина моя.
Не разбиралась я во всем до точки.
Простите, облетевшие листочки,
вы, ручейки, избушки и лесочки.
Я уезжаю! Уезжаю я.
Простите меня, веточки Охотска,
за редкость встреч, коротких, как охота.
Ведь вы весне прощаете охотно
за доброту недолгое тепло.
Прости, Хабаровск! Как светло глядишь ты
сквозь крыши, сквозь беленые лодыжки
деревьев, сквозь снежинки и сквозь льдышки!..
Давай простимся, время истекло.
Прощай, Совгавань! Больше не поспорим.
Со взрослых платьев лычки детства спорем.
Он был из тех, кто в воздухе, над морем.
На золотом погоне синий кант.
Выходит, слава утешает слабо.
Поудивляйся: «Пробивная баба…»
О, я пробьюсь! До самого генштаба!
Но ты — прощай. Прощай, мой лейтенант!
«Прощай!» — кричу всему, что остается,
и паровозным гулом отдается,
и бьется, как ведро о дно колодца,
и мчится, на пол тенями клонясь…
Прощай! Не потеряюсь. Не иголка.
И две девчонки машут нам с пригорка.
И дым, что пахнет едко и прогоркло, —
все тот же дым отечества для нас…