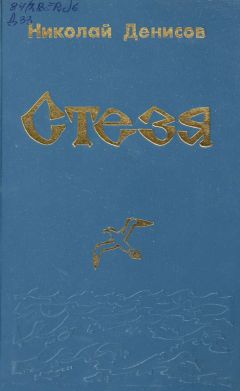Нетипичный случай
Сапогами скрипя фартово,
В блеске пуговиц – к ряду ряд,
Брал меня в городке портовом
Почему-то хмельной наряд.
Чудный месяц смотрелся в воду.
Сочиняй, о судьбе гадай.
– Ах, поэт! – обступили сходу,
Развлекались: – Документ дай!
Нет! И разом под дых и в зубы:
«Слишком грамотен, получи...»
Закусив изумленно губы,
Расползались в ночи бичи.
А наряд покурил недолго
За нечаянный интерес.
И с исполненным чувством долга,
Каблуками гремя, исчез.
«Ах, поэт? Развелось поэтов! –
Заклинал я в горячке строк, –
Встань, мой дед, ты за власть
Советов бился яростно... Вот итог!
Встань, как раньше во поле чистом,
Замогильно – не время спать,
Освистим их трехпалым свистом,
Прости Господи, в душу мать!»
Написал и – в газету: нате!
Возмущались и терли лбы.
Но стихи не прошли в печати,
Мол, по части идей слабы.
И клинками словес сверкая,
Убеждали, подумай сам:
Это ж пища врагам какая,
Подлым радиоголосам!
Успокойся, совету внемли,
Тихо топай к себе домой...
Убедили – враги не дремлют,
Вон как вздыбились, боже мой!
1978
Простой советский сочинитель,
Подручный партии родной,
Я помещен был в вытрезвитель,
Прошу прощения, – хмельной.
И по утру – раздавлен, скручен,
Уже безропотно, без сил –
Я там проснулся туча тучей:
Ах, что вчера наколбасил?
Немного вспомнил я, трезвея,
И думу горькую решал.
И гражданин при портупее
Мне очень нужное внушал.
Мерцала лампа вполнакала
И утверждал подвальный свет:
«Шипенье пенистых бокалов»
Воспел ошибочно поэт.
Посомневался я. Однако,
Кольнуло что-то под ребро.
И вдруг, о господи, из мрака
Возникло все Политбюро.
Портрет к портрету по порядку –
По генеральной колее,
Подретушированы гладко
В державном фотоателье.
Смотрели Маркс и Энгельс с полок,
И Брежнев, изданный с «колес».
Тут Суслов – главный идеолог,
Мигнул мне: «Коля, выше нос!»
Я ободрился. Рядом чинно
Писал «телегу» капитан.
«Заметь, – сказал я, – вот мужчины,
Пьют исключительно «нарзан»!
Был и у них, конечно, вывих,
С Хрущевым вспомни кутерьму!
Но тут политика, а вы их
В ночную пьяную тюрьму.
Но трезвых слов не замечая,
И крика – робкого – души,
Ответил «мент», ногой качая:
«Я разберусь... Не мельтеши!»
Потом я наскоро оделся:
«Михал Андреевич, прости...»
На волю вышел, огляделся,
Позвякал мелочыо в горсти.
Рассвет умыв, сияли лужи,
К достойным целям шла страна.
Пошел и я... Отмыть бы душу,
Да переможется она.
1978
Народ – на поезда
С баулами, с мешками.
А ты, дедок, куда?
И дед развел руками.
Мол, так я – меж людей!
При толчее веселой,
При пенсийке своей
Шестнадцатирублевой.
С кошелкою льняной, –
Не тягостною ношей,
В обувке выходной –
Резиновых калошах.
Душа его парит,
Блаженствует в зените,
Как будто говорит:
«Зажился, извините!»
Вот, выдохнув, присел
На краешек дивана,
От булочки поел,
Достав из целлофана.
Покой облюбовал,
Опять воспрянул духом.
И долго воевал
С назойливою мухой.
1979
Блестел на планках яркий кант,
И значилось название
Какой-то фирмы «Диамант»
В поверженной Германии.
И гармонист, любя-шутя,
Смоля махру казенную
Держал трехрядку,
Как дитя,
Под бомбами спасенное
Опять волнуя не одну
Молодку подгулявшую,
За всю проклятую войну
Ни разу не рожавшую.
И вновь играл.
Но был момент,
Такой момент особенный:
Ронял он чуб на инструмент
И ремешки застегивал.
И таял ламповый огонь
За горькою беседою...
Пылится старая гармонь
У нас в кладовке дедовой.
1979
В этом городе, вправду огромном,
На базаре, где брал керосин,
Отыскал я и комиссионный,
Как советовали, магазин.
Это мама дала мне поблажку,
Постреленку зеленых годков.
А купить мне хотелось фуражку
Со звездой, как у фронтовиков.
От соблазна душа так и пела:
Ребятню, мол, сражу наповал!
Что кепчонка? Привычное дело!
А в фуражках я толк понимал.
Захожу. И что деется, братцы!
Так с порога и кинуло в жар:
Ведь на полках, где б им красоваться,
Бесполезный навален товар!
Но держусь я, худой и голодный,
Деловито рублями тряся:
Не найдется ль фуражечки летной
Или флотской, что в золоте вся?
Продавец – на щеке бородавка
(Думал, злюка: проси не проси!) –
Неожиданно из-под прилавка
Подает, как по блату: носи!
И в село по дороге тележной
Шел в обновке я, любо взглянуть:
То сбивал на затылок небрежно,
То на бровь, то на ухо чуть-чуть.
Вот и мама спешит из ограды,
Отпирает калитку с крючка.
Показалось еще – и награды
Тяжелят мне борта пиджачка.
1979
Эта девочка снится всегда,
В легком платье – полет и парение!
Школьный бал. Выпускные года.
Торопливое сердцебиение.
Что я делал?
Да переживал.
По земле я ходил?
Не по небу ли?
На гармошке играл?
Ну, играл.
Объяснился в любви ей?
Да не было...
Были весны в другие лета,
Торопливые клятвы, признания.
Но вальсирует девочка та,
Обретая второе дыхание...
1979
Теперь на местном рынке
Запрещено винцо.
Зато, как на картинке,
Все фрукты налицо!
Прицениваюсь нежно:
Какие румяна!
Цена, она, конечно,
Кусается цена.
Поют веселым скопом
Под гирями весы.
Торчат, как из окопов,
Нездешние носы.
Они торчат недаром,
Делишки не плохи.
Останутся с наваром,
А мне опять – стихи!
Хожу-брожу нелепо,
Чеканятся слова:
– Почем, хозяин, репа?
– Попробуй-ка сперва...
1979
И день и ночь, строча, портняжа
По токовищам косачей,
Остатки зимнего пейзажа
Уносит труженик-ручей.
И облачка, что к солнцу жмутся,
Еще по-блоковски чисты,
По, глянь, над пашнею прольются.
Над чем же мучаешься ты?
А ты, прижав портфель к костюму
По грязным лужам держишь путь,
Ведь он, портфель, не фунт изюму
Не пара строф каких-нибудь!
В нем все, что надо:
Птичья тушка,
И рыба – спинка муксуна,
И даже ранняя петрушка.
И хрен.
А этот... на хрена?
А чтоб жене ответить с толком,
Докинув шляпу до гвоздя:
– Достал! – и радоваться долго,
Жестокий дух переводя.
1979
Поленница к поленнице –
И кладка хороша!
Труды мои оценятся,
Ведь вложена душа.
Я по-крестьянски бережно
Минутой дорожу.
Безвестности, безденежью
Топориком грожу.
Поленница – к поленнице,
Кладу, не устаю.
Красивой современнице
Полешки подаю.
Хоть комары-комарики
Едят нас, будь здоров,
Не отступлю от лирики
И на укладке дров.
Да-да, зимой оценится
Старательность моя:
Поленница к поленнице
Березовая!
1979