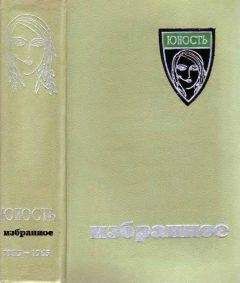Инна Лиснянская
Я бродила в норильском парке.
Я не видела почвы скупее.
Там деревьев тщедушные палки
Не дотягивались до скамеек.
Лишь скамейки там были зеленые,
Наклонялись к деревьям влюбленные —
Шла весна на прорыв
И на риск…
Я бродила,
Глядела
И ойкала…
А у парка,
За парком,
И около,
И вокруг
Возвышался Норильск.
Желто-розовый,
Стройно-каменный,
По-мальчишески нежен и крут.
Он казался московской окраиной,
Перешедшей Полярный круг.
«Я как бы приближаюсь к омуту…»
Я как бы приближаюсь к омуту,
Когда ступаю в эту комнату.
О, сколько музыки утоплено
В ее всеядной болтовне!
Здесь пианино —
Как утопленник
В раздутой белой простыне.
А все же комната не кладбище.
И раз,
А то и два на дню
Ее хозяйка смотрит в клавиши.
Как в зубы доброму коню:
Он — конь недвижимый, —
Он вывезет:
Ушла на музыку деньга!
Еще гостям хозяйка вынесет
Две репродукции Дега.
Померкнут танцовщицы в розовом
И побледнеют в голубом:
Сейчас и оптом их
И в розницу
Начнут слюнявить за столом
Искусства сытые поклонники…
Где тут начало?
Где концы?
Твои фарфоровые слоники —
Лишь желторотые птенцы.
«Как бы в своей особенной стране…»
I
Как бы в своей особенной стране
Живут глухонемые в тишине.
В том государстве, точно как и всюду.
Земля и небо, солнце и луна.
Но если кто случайно бьет посуду, —
Беззвучно разбивается она.
Все, как обычно: реки и деревни,
И города, и в городах метро.
Но ни о чем не шепчутся деревья,
Ветвями шевелящие мертво.
Бесшумны тротуары, как подстилки,
Проносятся трамваи, как во сне,
И с яркими наклейками пластинки
Бессмысленно кружатся в тишине.
И камень в реку падает без всплеска.
Но есть круги от всплеска на воде.
Нет радио. Но есть футбол и пресса.
Такие же, как всюду и везде.
II
Порою, суетой оглушены.
Мы рвемся на просторы тишины.
И в полночь, озираясь воровато.
Выходим из подъезда своего,
Чтоб донести от Бронной до Арбата
Теснящееся в сердце торжество.
«Вот тишина, и нет ее полнее», —
Так по дороге думается нам,
Когда спешим по вымершей панели,
Прислушиваясь к собственным шагам.
А иногда, собравшись,
как на полюс.
Под руководством пристальным жены
Торопимся на пригородный поезд —
На поиски все той же тишины.
Найдем ее… но тут земля задышит,
И запоет трава, и в этот час
Поймем, что тишиною лишь
затишье
Условно называется у нас…
Вы, бравшие Зимний, как
крепость.
Решительным приступом,
в лоб,
Вписавшие в пламенный эпос
«Аврору», Кронштадт,
Перекоп.
Иные и ныне — с живыми.
Иные — в глубинах времен.
Иные оставили имя.
Иные ушли без имен.
Но люди о вас не забыли:
Вписали в сердца и в гранит.
Вы миру Октябрь подарили,
А мир вам бессмертье дарит.
Тысяча девятьсот пятый.
Год рожденья моего!
Я не помню ни его набата.
Ни знамен и ни икон его.
И не помню, как экспроприатор
Вырывался из своей петли,
И того, как юный авиатор
Отрывался от сырой земли.
Где-то гибли, где-то шли ка приступ.
Воздвигались новые леса.
Где-то Ленин целился в махистов,
В глубь вещей Пикассо ворвался,
Циолковский вычислял ракету.
Затрудняясь прокормить семью.
И Эйнштейн, еще неведом свету,
Выводил уж формулу свою.
Вот что над моею колыбелью
Колебалось, искрилось, лилось.
И каких бы стрел я ни был целью,
Сколько б их мне в тело ни впилось.
Сколько б трав ни выпил я целебных.
На каком бы ни горел огне, —
Все же сказок никаких волшебных
Нянька не рассказывала мне.
Не могу похвастаться я этим.
Но зато похвастаться могу.
Что, взращенный молодым столетьем.
Вырос я в незримом их кругу…
Я вспомнил их, и вот они пришли. Один в лохмотьях был, безбров и черен: схоластику отверг он, непокорен, за что и осужден был, опозорен и, говорят, не избежал петли.
То был Вийон.
Второй был пьян и вздорен, блаженненького под руки вели, а он взывал: «Пречистая, внемли, житейский путь мой каменист и торен, кабатчикам попал я в кабалу. Нордау Макса принял я хулу, да и его ли только одного!»
То был Верлен.
А спутник у него был Юн, насмешлив, ангелообразен, и всякое творил он волшебство, чтоб все кругом сияло и цвело: слезу, плевок и битое стекло преображал в звезду, в цветок, в алмаз он и в серебро.
То был Артюр Рембо.
И, может быть, толпились позади еще Другие, смутные для взгляда, пришедшие из рая либо ада. И не успел спросить я, что им надо, как слышу я в ответ:
— Переводи!
А я сказал:
— Но я в XX веке, живу, как вам известно, господа. Пекусь о современном человеке. Мне некогда. Вот вы пришли сюда, а вслед за вами римляне и греки, а может быть, этруски и ацтеки пожалуют, что Делать мне тогда! Да вообще и стоит ли труда! Вот ты, Вийон, коль за тебя я сяду и, например, хоть о Большой Марго переведу как следует балладу, произнесет редактор: «О-го-го! Ведь это же — сплошное неприличье!» Он кое-что смягчить предложит мне. Но не предам своей сатиры бич я редакционных ножниц тупизне! Я не замажу кистью штукатура готическую живопись твою!
А «Иностранная литература», я от тебя, Рембо, не утаю, дала недавно про тебя, Артюра, и переводчиков твоих статью — зачем обратно на земные тропы они свели твой образ неземной подробностью ненужной и дурной, что ты, корабль свой оснастив хмельной и космос рассмотрев без телескопа, вдруг, будто бы мальчишка озорной, задумал оросить гелиотропы, на свежий воздух выйдя из пивной.
И я не говорю уж о Верлене — как надо понимать его псалмы, как вывести несчастного из тьмы противоречий! Дверь его тюрьмы раскрыть! Простить ему все преступленья: его лирическое исступленье, его накал до белого каленья. Пускай берут иные поколенья ответственность такую, а не мы!
Нет, господа, коварных ваших строчек Да не переведет моя рука, понеже ввысь стремлюсь, за облака, вперед гляжу, в грядущие века. И вообще какой я переводчик! Пусть уж другие и еще разочек переведут, пригладив вас слегка!
Но если бы, презрев все устрашенья, не сглаживая острые углы, я перевел вас — все-таки мишенью, я стал бы Для критической стрелы; и не какой-то куро-петушиной, но оперенной дьявольски умно: доказано бы было все равно, что только грежу точности вершиной, но не кибернетической машиной, а мною это переведено; что в текст чужой свои вложил я ноты, к чужим свой прибавил я грехи и в результате вдумчивой работы я все ж модернизировал стихи. И это верно, братья иностранцы; хоть и внимаю вашим голосам, но изгибаться, точно дама в танце, как в данс-макабре или контрдансе, передавать тончайшие нюансы средневековья или Ренессанса — в том преуспеть я не имею шанса, я не могу, я существую сам!
Я не могу дословно и буквально, как попугай вам вторить какаду! Пусть созданное вами гениально, по-своему я все переведу, и на меня жестокую облаву затеет ополченье толмачей: мол, тать в ночи, он исказил лукаво значение классических вещей.
Тут слышу я: