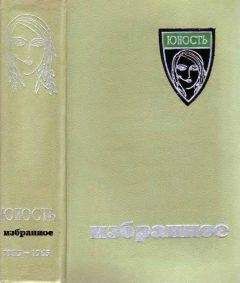Я не могу дословно и буквально, как попугай вам вторить какаду! Пусть созданное вами гениально, по-своему я все переведу, и на меня жестокую облаву затеет ополченье толмачей: мол, тать в ночи, он исказил лукаво значение классических вещей.
Тут слышу я:
— Дерзай! Имеешь право. И в наше время этаких вещей не избегали. Антокольский Павел пусть поворчит, но это не беда. Кто своего в чужое не добавил! Так поступали всюду и всегда! Любой из нас имеет основанье добавить, беспристрастие храня, в чужую скорбь свое негодованье, в чужое тленье своего огня. А коль простак взялся бы за работу, добавил бы в чужие он труды: трудолюбив — так собственного пота, ленив — так просто-напросто воды!
В зоопарке в тесноватой клетке
Беззаботно жили два бобра.
Разгрызая ивовые ветки,
Мягкие, с отливом серебра.
Но горчил печалью полускрытой
Терпкий привкус
Листьев и коры.
«Ну, а где же то,
За что мы сыты!
Где работа!» — думали бобры.
Как рабочих к лени приневолишь!
Им бы строить.
Строить да крепить,
А у них для этого всего лишь
Пополам расколотый кирпич.
Подошли бобры к нему вплотную.
Половинку подняли с трудом,
С важностью взвалили на другую…
Из чего же дальше строить дом?
Что же дальше делать им?
Не знают.
Приутихли, сумрачно глядят.
Сгорбились,
О чем-то вспоминают
И зеленых веток
Не едят.
Сети кругом развешены.
Хочется их потрогать.
Руки у каждой женщины
Обнажены по локоть.
Ходят шагами крупными.
Перекликаясь громко.
Водят руками круглыми,
Розовыми, как семга.
Синяя, белая, красная
Бьется в сетях добыча.
И красота их разная.
Женская и девичья,
Правильная и пряничная,
Служит делу подспорьем.
И вся городская прачечная.
Пахнет соленым морем.
Я к вам пишу.
А как вас звать?
Никак!
Чего же боле!!
Меня презреньем наказать
Никак
Не в вашей воле.
От самой древней древности
На то и аноним,
Что, стало быть, в презренности
Никем не заменим.
Стрелять в затылок не хитро.
И стоит ли труда
Иметь бумагу и перо
И не иметь стыда?!
Ты рвешься правду мне открыть?
Но как! Путем неправды?!
Открой лицо — и, может быть,
Хоть в этом будешь прав ты.
Смотри! Двенадцать тысяч слов.
Но подпись: «Аноним» —
И все двенадцать тысяч слов
Зачеркнуты одним.
Ты рвешься в бой!
О чем же речь,
Коль сильно разобрало!
Но прежде чем подымешь меч,
Изволь поднять забрало.
А то ведь я-то — вот она.
А ты неуловим.
Нет! Не по правилам война!
Откройся, аноним!
Но что за дерзкая мечта —
Увидеть анонима!
Неуязвима пустота.
Ничтожество незримо.
И даже видя подлеца,
Чья подлость не секрет.
Мы видим маску.
А лица —
Увы! — под маской нет!
Реформа — стройка,
Ломка — полреформы.
А между тем, новаторы, — увы! —
Сломали вы
Постройку старой формы,
А новых форм не выстроили вы.
Крот роет грот,
Косами вьются корни,
Рождается струна из тетивы,
Дождь месит глину,
Луч меняет форму.
Все гнется, льется…
Спите только вы.
И сон зовете новью!
Знаю: стансы
Сошли на нет.
Но что взошло «на да»?
Один на всех
Унылый слог остался
Да лесенка скрипучая.
И та
Годна не для подъема,
А для спуска
С подмостков задремавшего искусства.
«Сколько лет прошло с малолетства…»
Сколько лет прошло с малолетства.
Что его вспоминаешь с трудом.
И стоит вдалеке мое детство,
Как с закрытыми ставнями дом.
В этом доме все живы-здоровы —
Те, которых давно уже нет.
И висячая лампа в столовой
Льет по-прежнему теплый свет.
В поздний час все домашние
в сборе —
Братья, сестры, отец и мать.
И так жаль, что приходится вскоре.
Распрощавшись, ложиться спать.
«Ты много ли видел на свете берез?..»
Ты много ли видел на свете берез?
Быть может, всего только две, —
Когда опушил их впервые мороз
Иль в первой весенней листве.
А может быть, летом домой ты пришел, —
И солнцем наполнен твой дом,
И светится чистый березовый ствол
В саду за открытым окном.
А много ль рассветов ты встретил в лесу?
Не больше чем два или три.
Когда, на былинках тревожа росу,
Без цели бродил до зари.
А часто ли видел ты близких своих?
Всего только несколько раз.
Когда твой досуг был просторен и тих
И, пристален взгляд твоих глаз.
«Люди пишут, а время стирает…»
Люди пишут, а время стирает.
Все стирает, что может стереть.
Но скажи: если слух умирает,
Разве должен и звук умереть?
Он становится глуше и тише.
Он смешаться готов с тишиной.
И не слухом, а сердцем я слышу
Этот смех, этот голос грудной.
«Как птицы, скачут и бегут, как мыши…»
Как птицы, скачут и бегут, как мыши,
Сухие листья кленов и берез,
С ветвей срываясь, устилают крыши.
Пока их ветер дальше не унес.
Осенний сад не помнит, увядая,
Что в огненной листве погребена
Такая звонкая, такая молодая,
Еще совсем недавняя весна.
Что эти листья — летняя прохлада.
Струившая зеленоватый свет…
Как хорошо, что у деревьев сада
О прошлых днях воспоминанья нет.
«На всех часах вы можете прочесть…»
На всех часах вы можете прочесть
Слова простые истины глубокой:
Теряя время, мы теряем честь.
А совесть остается после срока.
Она живет в душе не по часам.
Раскаянье всегда приходит поздно.
А честь на час указывает нам
Протянутой рукою — стрелкой
грозной.
Чтоб наша совесть не казнила нас.
Не потеряйте краткий этот час.
Пускай, как стрелки в полдень, будут
вместе
Веленья нашей совести и чести.
«Сколько раз пытался я ускорить…»
Сколько раз пытался я ускорить
Время, что несло меня вперед.
Подхлестнуть, вспугнуть пришпорить.
Чтобы слышать, как оно идет.
А теперь неторопливо еду,
Но зато я слышу каждый шаг.
Слышу, как дубы ведут беседу.
Как лесной ручей бежит в овраг.
Жизнь идет не медленней, не тише,
Потому что лес вечерний тих,
И прощальный шум ветвей я слышу
Без тебя — один за нас двоих.
Я помню эти выстрелы в ночи.
По-волчьи выли бабы на печи.
Казалось каждой в этот страшный час.
Что мужа расстреляли в сотый раз.
Они своих не помнили заслуг,
По семеро впрягались бабы в плуг.
Чтоб хлеб родили минные поля.
Чтоб ровной стала рваная земля.
А нынче в хатах есть и хлеб и соль.
Былую жгучесть выплакала боль,
И слезы вдовьи сдержанно текли…
Все сердцем бабы вытерпеть смогли.
Когда в дороге встретятся они,
В поклоне низком голову склони.
Залатанная бабами земля
Вспоила море — хлебные поля.