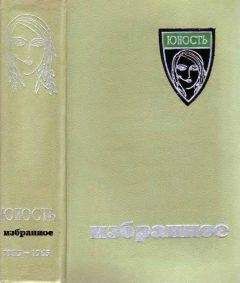Март
На арбатском дворе и веселье и смех.
Вот уже мостовые становятся
мокрыми…
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег!
Мы устроим ему развеселые похороны.
По кладовкам по темным поржавеют
коньки,
позабытые лыжи по углам
покоробятся…
Плачьте, дети!
Из-за белой реки
скоро-скоро кузнечики к вам заторопятся.
Будет много кузнечиков — хватит
на всех!
Вы не будете, дети, гулять
в одиночестве…
Плачьте, дети!
Умирает мартовский снег!..
Мы ему воздадим генеральские
почести.
Заиграют грачи над его головой,
грохнет лед на реке в лиловые
трещины…
Но останется снежная баба вдовой.
Будьте, дети, добры и внимательны
к женщине!
Круглы у радости глаза и велики —
у страха,
и пять морщинок на челе
от празднеств и обид…
Но вышел тихий дирижер,
но заиграли Баха,
и все затихло, улеглось и обрело
свой вид.
Все встало на свои места,
едва сыграли Баха…
Когда бы не было надежд,
на черта белый свет!
К чему вино, кино, пшено,
квитанции Госстраха
и вам — ботинки первый сорт,
которым сносу нет!
Не все ль равно, какой земли
касаются подошвы!
Не все ль равно, какой улов
из волн несет рыбак!
Не все ль равно, вернешься цел
или в бою падешь ты,
и руку кто подаст в беде —
товарищ или враг?..
О, чтобы было все не так,
чтоб все иначе было,
наверно, именно затем,
наверно, потому
играет будничный оркестр
привычно и вполсилы,
а мы так трудно и легко
все тянемся к нему.
Ах, музыкант, мой музыкант!
Играешь, да не знаешь,
что нет печальных, и больных,
и виноватых нет,
когда в прокуренных руках
так просто ты сжимаешь,
ах музыкант, мой музыкант,
черешневый кларнет!
Вечерами поэты шалые
Собираются у меня.
Сбросив кожанки обветшалые.
Снег, начальство, судьбу кляня.
Суечусь, грохочу посудою,
Жарко комнату натоплю.
Эту публику узкогрудую
Почему-то я очень люблю.
Все чернилами перемажемся.
Плещут руки — худы, длинны…
Мы, должно быть, смешными кажемся
Человеку со стороны.
За стихами, за чаем с баранками.
За шутливыми перебранками
Ночь в окно стукнет черной рукой.
Встанем.
Звякнут чашки пустые…
Я люблю вас, ребята простые.
Потому что и сам такой.
Только я не уверен, ваш ли я:
Я у долгих дорог в долгу.
Век прожить, над стихами кашляя,
Я, наверное, не смогу.
Поздно ночью уйдут, ссутулятся.
Стихнет по двору скрип шагов.
Ночь морозна.
Безлюдна улица.
С неба сыплются хлопья стихов.
Из-за ограды маки пахнут пряно.
Там девочка играет по ночам.
Я не могу играть на фортепьяно:
Я не обучен нотам и ключам.
Боюсь касаться я рояльных клавиш
Тупой костяшкой пальца своего:
Ткнешь посильней — и вмятину оставишь
На хрупких белых косточках его.
Но под ее рукой — рукой ребенка
Рояль живет, и плача и звеня…
Сегодня эта глупая девчонка
Опять пытает музыкой меня.
И вот в тиши растет глухая смута,
Редеет мгла, и в уши бьет прибой,
И вздрагивает грудь, и почему-то
Я снова недоволен сам собой.
Стою и не могу ступить ни шагу,
И месяц вдруг расплылся в облаках.
И я, стыдясь, размазываю влагу
По грубому загару на щеках…
А по утрам
Из дома с синей крышей
Выходит девочка с лицом летучей мыши,
Рукой отводит ветки бузины,
Глаза ее недвижны и грустны.
Она стоит в тени большого дуба
И смотрит вдаль,
В просторы желтых нив.
Беспомощные руки уронив,
Сутула, большерота, бледногуба.
Потом,
Вздохнув,
Идет из сада прочь И молча ждет,
Когда настанет ночь.
Я тоже жду…
Я полон беспокойства.
Я, как свиданья, жду минуты той.
Когда мной овладеет недовольство,
Рожденное великой красотой.
Когда начнет трухлявая ограда
Зеленое сиянье излучать…
А ты красива,
И тебе не надо
Писать стихи
И ноты изучать.
Снова пишет вам «татарин».
Сам не зная, для чего.
Вам «татарин»
Благодарен,
Если помните его.
Так меня вы называли.
Как живете, егоза!
Только помните едва ли
Вы раскосые глаза.
Только помните навряд ли.
Наши встречи-пустяки…
Влагой мартовской набрякли
Темно-рыжие пески.
Дождь, ударив из потемок.
Размотал дорог клубок,
Месяц, как слепой котенок.
Тыкается туче в бок.
Холод спит на сонном броде,
В саксауле — хруст и шум.
По ночам туманы бродят
Над пустыней Каракум.
От дождя ее массивы
Уподобились коре,
И теперь пройдут машины
С Кабаклы к Ичикаре.
На конверте сохнет марка.
Сохнут буковки письма…
А у вас — начало марта.
Стало быть, еще зима.
Я скучаю по морозу.
Что горяч, как кипяток.
Подарить бы вам мимозу
Иль другой какой цветок?
Зря я боль из сердца поднял.
Зря с собой не совладал:
Все равно я вас не понял
И себя не разгадал.
Я не вышел из потемок,
В горле — прошлого клубок.
Сердце, как слепой котенок.
Тихо тыкается в бок.
Прощай, Варвара Федоровна!
Я продаю буфет,
громоздкий и ободранный
обломок давних лет.
В дубовом атом ящике
прах твоего мирка.
Ты на Немецком кладбище
давно мертвым-мертва.
А я все помню — надо же! —
помню до сих пор
лицо лукаво-набожное,
твой городской фольклор…
Прощай, Варвара Федоровна!
Я продаю буфет,
словно иду на похороны
спустя пятнадцать лет.
Радости заглохшие
с горем пополам —
все, все идет задешево
на доски столярам!
Последнее свидетельство
того, что ты жила,
как гроб, несут по лестнице.
Ноша тяжела.
Костры на берегу Чулыма,
В багровых отблесках карьер.
И ты, встающая из дыма.
Гроза чиновничьих карьер, —
Глухая, ярая от ветра.
Сто сорок пятая верста.
Здесь мне геодезистка Вера
Читала Блока у костра.
Ее здесь высилась палатка,
Над ней чулымская звезда
Всходила трепетно и шатко.
Сто сорок пятая верста…
Но я-то знал:
Ей не до Блока.
— Любовь, — она смеялась, —
свист!
Большой любитель баскетбола.
Он укатил в Новосибирск.
Он, в сущности, хороший парень,
Единственный у мамы сын…
Ах, девушки таежных партий,
Летящие сквозь снег и стынь!
В морозных ватниках дубленых,
В полночных всполохах от ГРЭС.
Я вижу вас —
Красивых, модных,
Все озаряющих окрест.
Кружащихся одних и в парах…
И мне противен лишь один,
Тот, в сущности, хороший парень.
Единственный у мамы сын.
Мне по сердцу костры Чулыма,
В багровых отблесках карьер.
Мужчина, если он мужчина,
Не продает таких вот Вер!
И я ищу в порывах ветра
Ее фигурку у костра…
Прощай, геодезистка Вера,
Сто сорок пятая верста!